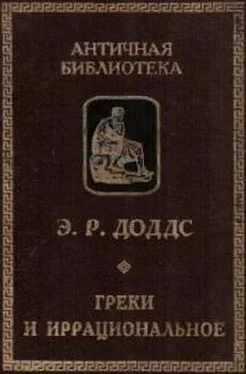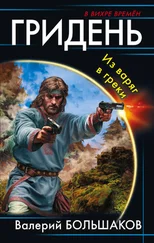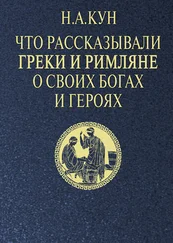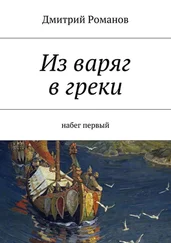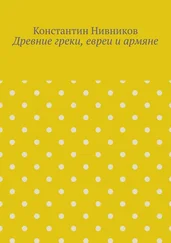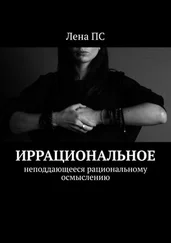Вторая особенность, которая, по всей видимости, тесно связана с первой, должна была развиваться в том же направлении. Это традиция объяснять характер или поведение в терминах познания. [112] Ср. W. Marg, op. cit., 69 ff.; W. Nestle, Vom Mythos zum Logos, 33 ff.
Самый известный пример — широкое использование глагола οΐδα , «я знаю», вместе с объектом во множественном числе и среднем роде, с целью выразить не только обладание техническими навыками (οίδενπολεμήια έργα, «он знает военное дело» и т. п.), но и то, что уместно назвать нравственным характером или личными переживаниями: Ахилл «как лев, о свирепствах лишь мыслит», Полифем «никакого не ведал закона», Нестор и Агамемнон «сопряжены дружбою тесной». [113] Il. 24. 41; Od. 9. 189; Od. 3. 277.
Это не просто «идиома»: подобное выражение чувств в терминах интеллекта подразумевается и тогда, когда говорится, что Ахилл имеет «суровое разумение» (νόος) или что троянцы «помнили о бегстве и забыли о сопротивлении». [114] Il. 16. 35, 356 сл.
Этот интеллектуалистский подход к объяснению поведения оставил заметный след в греческом сознании: так называемые сократовские парадоксы, эти его «добродетель как знание», «никто не поступает неправильно с умыслом» были не новшествами, но эксплицитно обобщенными формулировками того, что было издавна укоренено в греческом мышлении. [115] Та же самая идея была выдвинута W. Nestle, NJbb, 1922, 137 ff.; он находит сократовские парадоксы «echt griechisch» [«истинно греческими»] и отмечает, что они присущи уже и наивной психологии Гомера. Но следует остерегаться рассматривать этот традиционный «интеллектуализм» как позицию, сознательно выбранную представителями интеллектуальной «.элиты»; в действительности он является просто неизбежным следствием отсутствия концепции воли (ср. L. Gernet, Pensee juridique et morale, 312).
Эти особенности мышления должны были поощрять веру в психическую интервенцию. Если характером является само знание, тогда то, что не есть знание, не является частью характера и приходит к человеку извне. Когда человек действует в манере, противоположной системе сознательных установок, которую он, как считается, «знает», его деятельность не принадлежит ему изнутри, но продиктована ему. Иначе говоря, несистематические, нерациональные импульсы, а также действия, проистекающие из них, имеют тенденцию к исключению из я и приписыванию их постороннему источнику.
Очевидно, что подобная ситуация вряд ли бывает, когда поступки, о которых идет речь, таковы, что вызывают сильный стыд у совершившего их. Мы знаем, как в нашем собственном обществе жгучее ощущение вины может быть снято путем «проецирования» ее в собственной фантазии на кого-нибудь еще. И можно считать, что понятие ате сослужило подобную службу гомеровскому человеку, помогая ему надежно уверовать в силу переноса на внешние факторы своих ощущений сильного стыда. Я говорю «стыд», а не «вина», ибо некоторые американские антропологи совсем недавно научили нас отличать «культуры стыда» от «культур вины»; [116] Хорошее объяснение этих терминов можно найти в: Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, 222 ff. Мы сами являемся наследниками старой и сильной (ныне, однако, клонящейся к упадку) культуры вины; этот факт, вероятно, может объяснить, почему столь многие ученые не могут согласиться с тем, что гомеровская религия имеет право называться «религией».
общество, описываемое Гомером, попадает в первый разряд. Высшее благо для гомеровского человека — не блаженство умиротворенного сознания, но радость от тиме, «общественного признания»: «Зачем сражаться мне, — вопрошает Ахилл, — коль воина мощного чтят не выше, чем слабого?» [117] Il. 9. 135 сл. О важности тиме у Гомера см. W. Jaeger, Paideia, I. 7 ff.
Сильнейший нравственный мотив, которым руководствуется гомеровский человек, — не страх перед богом, но оценка его поведения общественным мнением (айдос): αϊδέομαι Τρώας [«стыжуся троян»], говорит Гектор в кризисный момент своей судьбы, и идет с открытыми глазами навстречу своей гибели. [118] Il. 22. 105. Ср. 6. 442, 15. 561 сл., 17. 91 сл.; Od. 16. 75, 21. 323 сл.; Wilamowitz, Glaube, I. 353 ff.; W. J. Verdenius, Mnem. 12 (1944), 47 ff. Санкцией айдоса является немесис, общественное осуждение: ср. Il. 6. 351, 13. 121 сл.; Od. 2. 136 сл. Использование для описания поведения терминов καλόν [прекрасное] и αίσχρόν [отвратительное] тоже кажется типичным в культуре стыда. Эти слова означают не то, что действие благоприятно или вредоносно для деятеля или что оно правильное или неправильное в глазах божества, но то, что оно видится «прекрасным» или «безобразным» в глазах общества.
Ситуация, в которой понятие ате является ответом, возникающим не столько из импульсивности гомеровского человека, сколько из разлада между индивидуальным импульсом и давлением социальных установок — характерная черта культуры стыда. [119] Когда идея вторжения в сознание пустила крепкие корни, она должна была, без сомнения, поощрять импульсивное поведение. Подобно тому как современные антропологи, вместо того чтобы говорить, вместе с Фрэзером, о том, что дикари верят в магию оттого, что ложно рассуждают, склонны считать, что дикари ложно рассуждают оттого, что их вера в магию социально обусловлена, так и мы, вместо того чтобы вместе с Нильссоном полагать, что гомеровский человек верит в психические вторжения из-за своей импульсивности, скажем, что он высвобождает свои импульсы из-за того, что его вера в психические вторжения социально обусловлена.
В подобном обществе все то, что вызывает в человеке осуждение или насмешки со стороны его соотечественников, все то, что способствует «потере лица» у него, воспринимается им как невыносимое. [120] О значении страха перед высмеиванием как социального мотива см. Raul Radin, Primitive Man as Philosopher, 50.
Возможно, этот момент поможет объяснить, как не только случаи нравственных провалов, подобных потере Агамемноном контроля над собой, но и такие эпизоды, как неудачная сделка Главка или игнорирование Автомедонтом правильной тактики, «проецировались» на деятельность бога. С другой стороны, именно постепенный рост чувства вины, характеризующей более позднюю эпоху, трансформировал ате в наказание, Эриний — в мстительных духов, а Зевса — в воплощение космической справедливости. Эти трансформации мы рассмотрим в следующей главе.
Читать дальше