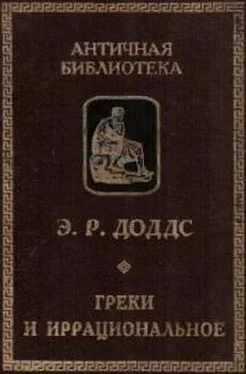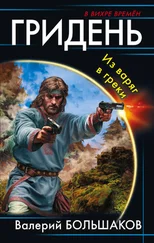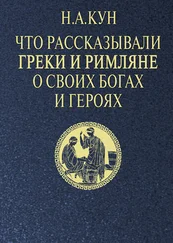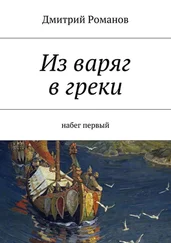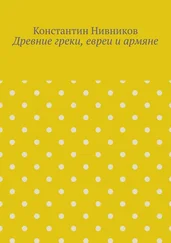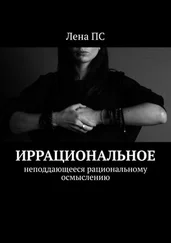Нильссон, по-моему, может считаться первым ученым, который серьезно пытался найти объяснение всех этих явлений в психологической сфере. В одной статье, опубликованной в 1924 году, [99] «Götter und Psychologie bei Homer», Arch. f. Rel. 22. 363 ff. Выводы этой работы суммируются также в его History of Greek Religion, 122 ff.
ныне ставшей классической, он заявил, что гомеровские герои особенно подвержены быстрым и резким сменам настроения: они страдают, по его словам, от душевной неустойчивости (psychische Labilität). Еще он отметил, что даже и в наши дни человек подобного темперамента способен, когда его настроение возвращается в норму, с ужасом взглянуть на то, что он только что совершил, и воскликнуть: «Не может быть, чтобы я сделал это!». Отсюда остается небольшой шаг до того, чтобы сказать: «На самом деле все это сделал не я». «Его собственное поведение, — заключает Нильссон, — стало ему чуждым. Он не в силах понять его. Там не присутствует его "Я"». Это абсолютно верное замечание, и его уместность относительно ряда феноменов, которые мы рассмотрели, не стоит, думается, отрицать. Я полагаю, Нильссон также прав, когда утверждает, что переживания такого рода — наряду с другими элементами, такими как минойская традиция богинь-покровительниц, — сыграли определенную роль в разработке той механики физического вторжения, которую постоянно (и, по общему мнению, зачастую излишне) упоминает Гомер. Излишне потому, что активность богов кажется нам во многих случаях только удвоением естественной психологической причинности. [100] Как указывает Снелль (Snell, Die Entdeckung des Geistes, 45), «излишний» характер очень многих божественных вторжений показывает, что они не изобретались просто для облегчения поэтического замысла (поскольку и без них ход событий остался бы прежним), но основываются на более древнем пласте верований. Кауэр считал (Cauer, Grundfragen, I. 401), что «натуралистичность» многих гомеровских чудес была бессознательным приноравливанием к настроениям эпохи, когда поэты переставали верить в чудеса. Однако изобилие чудес — факт, распространенный в примитивной культуре. Ср., например, Ε. Е. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles and Magic among Azande, 77, 508, и критику позиции Кауэра в: Ehnmark, Anthropomorphism and Miracle, chap. iv.
Но не следует ли в действительности сказать, что скорее символика божественного «удваивает» вторжение в психику, выражая его в конкретной, наглядной форме? Тогда это уже не излишество, ведь только таким путем подобное вторжение могло бы живо представиться воображению слушателей. Гомеровские поэты не обладали теми языковыми тонкостями, которые необходимы для адекватной передачи чисто психологического феномена. Что может быть естественней, чем то, что они пытаются сперва дополнить, а затем и заменить какую-нибудь старую изношенную формулу типа μένος έ'μβαλε θυμω, «вдохнул в дух мужество», заставляя бога появиться в физическом облике и сказать своему фавориту предостерегающее слово? [101] Напр., Il. 16. 712 сл.. В Il. 13 43 сл. физическое и (60) психическое вторжение идут рука об руку. Несомненно, представление об эпифаниях богов в битве тоже коренилось в народных верованиях (та же самая вера, которая создала ангелов в Монсе), хотя, как замечает Нильссон, в более поздние времена обычно не боги, а герои появляются таким способом.
Насколько это может быть живее, чем простое внутреннее внушение, видно из знаменитой сцены в «Илиаде», 1, где Афина, лаская волосы Ахилла, советует ему не ссориться с Агамемноном. Ахилл один видит ее, «прочим незримую в сонме». [102] Il. 1. 198.
Очевидный намек на то, что она суть проекция, наглядное выражение внутреннего голоса [103] Ср. Voigt, Überlegung и. Entscheidung... bei Homer, 54 ff. Чаще всего предупреждение дается богом, «маскирующимся» под человека; это, возможно, происходит из более ранней формы, в которой совет давался человеком самому себе, предостереженным богом или даймоном (Voigt, ibid., 63).
— предостережение, которое Ахилл выражал, видимо, в такой неясной фразе, как ενέπνευσε φρεσί δαίμων, «божество вдохнуло душу». Я полагаю, что в целом феномены внутреннего голоса, или внезапного беспричинного ощущения прилива сил, или внезапной беспричинной потери здравого смысла являются тем зародышем, из которого и развилась «символика божественного ».
Один из результатов переноса события из внутреннего мира во внешний состоит в том, что исчезает неопределенность: неясный даймон неизбежно становится конкретным, личностным божеством. В «Илиаде», 1, он превращается в Афину, богиню мудрого совета. Таков был выбор поэта. Скорее всего, многократно совершая похожие шаги, поэты постепенно обрисовали личности своих богов, «различили, — как считает Геродот, — их свойства и сферу действий и установили их физический облик». [104] Hdt. 2. 53. Лоуи заметил, что первобытный художник, следуя своему эстетическому импульсу, «может подойти к созданию образа, который одновременно синтезирует все сущностные моменты его религии, не противореча им ни в одной части, однако добавляет ряд мазков, которые подчас не просто затеняют, но и материально изменяют предшествующую картину. Пока положение вещей остается неизменным, новый образ — не более чем индивидуальная версия общей нормы. Но едва этот вариант... возвышается до уровня стандартной репрезентации, он становится источником соответствующих народных представлений» (Lowie, Primitive Religion, 267 f.). Это замечание относится к визуальным искусствам, однако оно дает точное описание тех условий, при которых, как мне кажется, греческая религия воздействовала на становление эпоса.
Поэты, разумеется, не измыслили богов (впрочем, Геродот об этом и не говорит): Афина, например, была, как мы теперь имеем основания считать, минойской домашней богиней. Однако поэты наградили их персональностью — и тем самым, как думает Нильссон, сделали для греков невозможным впасть в магический тип религии, который превалировал у их восточных соседей.
Читать дальше