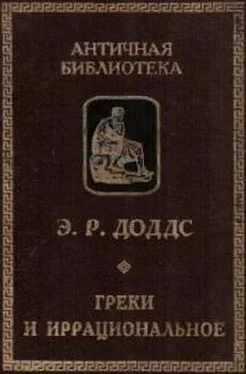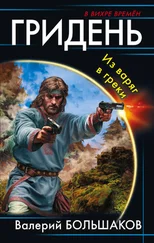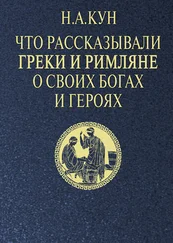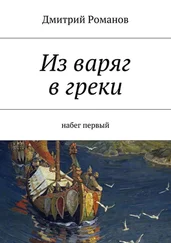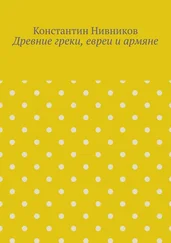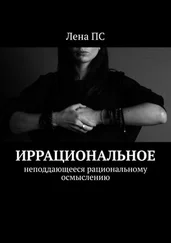И действительно, это подобно тому, как если бы мы ожидали от тех людей, с которыми беседуем, что они должны верить (или верили их предки) в ежедневные и ежечасные предостережения. Узнавание, интуиция, воспоминание, превосходная или навязчивая мысль имеют то общее, что они приходят внезапно, как мы выражаемся, «в голову человека». Зачастую он не наблюдает и не понимает причин, приведших их к нему. Но в каком же тогда смысле может он назвать их «своими»? Еще мгновение назад они не присутствовали в его уме; теперь они здесь. Что-то привело их сюда, и это «что-то» — явно иное, чем «мое я». Больше он ничего не знает. Поэтому он говорит о них уклончиво, называя «богами» или «богом», или, более часто (особенно когда стремительность их действий приводит к плачевным для него результатам), даймоном. [87] Ср. даймона, который приносит несчастье или приводит нежеланных гостей — 10. 64, 24. 149, 4. 274 сл., 17. 446 и который называется κακός [дурной, злой], в первых двух из этих выдержек, а также στυγερός δαίμων [ужасный даймон], причиняющий болезнь (5. 396). Эти пассажи являются несомненными исключениями из вывода Энмарка (Ehnmark, Anthropomorphism and Miracle, 64) о том, что даймоны «Одиссеи» — просто неотождествленные олимпийские боги.
И по аналогии он применяет это же объяснение для идей и действий других людей, когда находит затруднительным понять и охарактеризовать их. Хороший пример — речь Антиноя из «Одиссеи» (кн. 2), когда, после восхваления исключительной рассудительности и рачительности Пенелопы, он говорит, что ее намерение отказаться от повторного замужества никуда не годится, и делает вывод, что «боги вложили эти помышленья ей в сердце». [88] 2. 122 сл.
Точно так же, когда Телемах в первый раз дерзко разговаривает с женихами, Антиной не без иронии заключает, что «боги учат его быть столь кичливым в словах». [89] 1. 384 сл.
На самом деле наставник Телемаха — Афина, как известно и поэту, и читателю; [90] 1. 320 сл.
однако сам Антиной этого не знает, поэтому и говорит: «боги».
Похожее разграничение знания говорящего и знания поэта можно встретить в нескольких эпизодах «Илиады». Когда на луке Тевкра лопается тетива, он со страхом восклицает, что это даймон помешал ему; однако на самом деле помешал Зевс, о чем несколько ранее сообщил сам поэт. [91] Il. 15. 461 сл.
Выдвигалось предположение, что в таких пассажах речь самого поэта архаичнее, поскольку он все еще пользуется «микенской» символикой божественного, в то время как его персонажи игнорируют ее и употребляют более неясный язык, подобный языку ионийских современников поэта, которые (как утверждается) потеряли веру в старых антропоморфных богов. [92] Е. Heden, Homerische Götterstudien.
На мой взгляд, это почти полное переворачивание реального положения вещей. Так или иначе, очевидно, что растерянность Тевкра не имеет ничего общего со скептицизмом: она — простое следствие незнания. Используя слово «даймон», он «выражает тот факт, что некая более высокая сила заставила нечто произойти», [93] Nilsson, Arch. f. Rel. 22. 379.
и это все, что ему известно. Как показал Эн-марк, [94] Ehnmark, The Idea of God in Homer, chap. V. Ср. также Linforth, «Named and Unnamed Gods in Herodotus», Univ. of California Publications in Classical Philology, IX. 7 (1928).
подобный неопределенный язык в отношении к сверхъестественному использовался греками в течение всей их истории, и не из скептицизма, а просто потому, что у них отсутствует идея личных божеств. [95] См., например, пассажи, цитируемые у Леви-Брюля: Levy-Bruhl, Primitives and the Supernatural, 22 ff.
Тот факт, что используемый греками язык очень архаичен, можно продемонстрировать на примере прилагательного daemonies. Это слово означало «действие, совершенное по совету даймона»; но уже в «Илиаде» его исконный смысл настолько исказился, что Зевс, например, может употребить его в отношении к Гере. [96] Il. 4. 31. Cm. P. Cauer, Kunst der Ubersetzung, 27.
Очевидно, что подобные искаженные речевые обороты были в ходу достаточно долгое время.
Таким образом, мы в несколько беглой манере сделали обзор самых распространенных видов вторжения в сознание, встречающихся у Гомера. Суммируя их, можно сказать, что все отклонения от нормального человеческого поведения, причины которых нельзя постичь непосредственным путем [97] Весьма неплохой, по причине своей обыденности, образчик значимости непонятного, виден в том факте, что чихание — эта столь беспричинная и естественная физическая конвульсия — считается знамением у очень многих народов, в том числе у гомеровских греков (Od. 17. 541), равно как и у греков классического (Xen. Anab. 3. 3. 9) и римского периода (Plut. gen. Socr. 581 сл.). Ср. Halliday, Greek Divination, 174 ff., и Tylor, Primitive Culture, I. 97 ff.
— будь то собственным сознанием субъекта или наблюдением со стороны, — приписываются сверхъестественным факторам; им же приписывается также и любое отклонение от нормальных погодных условий или нормального натяжения тетивы. Этот вывод вряд ли удивит неклассического антрополога: последний без труда найдет параллели с похожими верованиями на Борнео или в Центральной Африке. Но наверняка странно обнаружить, что эта вера, эта значимость постоянной, сиюминутной зависимости от сверхъестественного прочно входят в сюжет столь якобы «иррелигиозных» поэм, как «Илиада» или «Одиссея». И мы также можем спросить себя, почему такие цивилизованные, здравомыслящие и рациональные люди, как ионические греки, не элиминировали из своих национальных эпосов эти ассоциации с Борнео и первобытным прошлым, подобно тому как они элиминировали страх перед смертью, страх осквернения и другие примитивные страхи, которые первоначально, несомненно, играли какую-то роль. Сомневаюсь, описывается ли столь часто и столь последовательно в ранней литературе любого другого европейского народа — даже у моих суеверных соотечественников, ирландцев — вторжение сверхъестественных сил в человеческую жизнь. [98] Какой-то аналог ате, вероятно, можно усмотреть в состоянии, называемом fey [«обреченный на смерть», «роковой» (шотл.)], или fairy-struck, которое, по поверьям, внезапно находит на людей и «заставляет их совершать нечто абсолютно непохожее на их прежнюю деятельность» (Pobert Kirk, The Secret Commonwealth).
Читать дальше