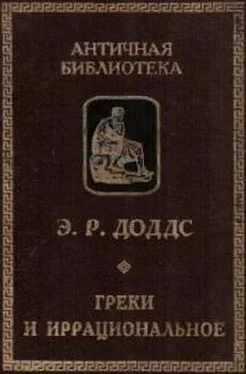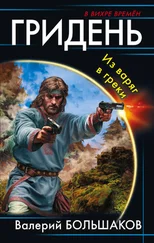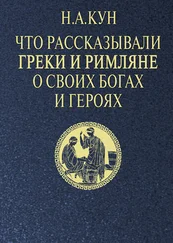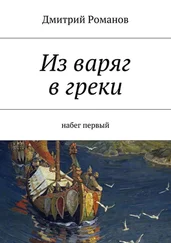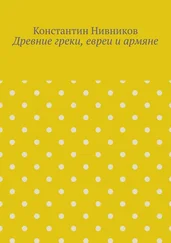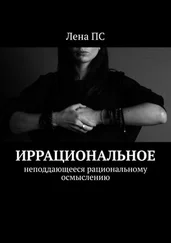Иногда, [131] Solon, fr. 13 Bergk (ср. Wilamowitz, Sappho и. Sim. 257 ff., Wehrli, op. cit. , 11 ff., и R. Lattimore, AJP 68 [1947] 161 ff.; Aesch. Agam. 751 сл., где их мнение контрастирует с общераспространенной точкой зрения; Hdt. 1. 34. 1.
хотя и далеко не всегда, [132] Напр., Hdt. 7. 10. Софокл, по-видимому, нигде не морализирует эту идею, которая появляется в El. 1466, Phil. 776 и утверждается как основная мысль в Ant. 613. И ср. также Aristophanes, Plut. 87-92, где считается, что Зевс должен иметь особое недовольство против χρηστοί [добрых].
авторы этого периода морализуют фтонос, превращая его в немесис, «праведный гнев». Существует внутренняя нравственная связь между первобытной завистью слишком большому счастью и наказанием за это счастье ревнивым божеством: как считается, счастье производит у человека корос, самодовольство тем, что он все делает слишком хорошо, — в свою очередь, это развивает гибрис, высокомерие в словах, поступках и даже мыслях. Будучи интерпретирована подобным образом, прежняя вера стала более рациональной; правда, из-за этого она не стала менее репрессивной. Мы видим из сцены с ковром в «Агамемноне», как каждое проявление триумфа возбуждает у людей тревожащее чувство вины: гибрис оказывается «первичным злом», грехом, возмездием за который является смерть; этот грех так универсален, что в одном гомеровском гимне он называется темисом, т. е. исконной человеческой традицией, а Архилох приписывает его даже животным. Люди знали, что быть счастливым — опасно. [133] О гибрисе как πρώτον κακόν [первичное зло] см. Theognis, 151 сл.; о его универсальности — Н. Apoll. 541: ϋβρις θ', ήθέμις έστϊ καταθνητών ανθρώπων «надменность и закон присущи смертным», и Archilochus, fr. 88: ώ Ζεΰ... охи δέ θηρίων ϋβρις τε και δίκη μέλει «О Зевс... тревожат твоя звериная надменность и правда». Ср. также Гераклит, fr. 43 D.: ϋβριν χρή σβεννύναι μάλλον ή πυρκαϊήν [«своеволие надо гасить пуще пожара».]. Об опасности счастья ср. замечание Мюррея о том, что «когда в греческой поэзии кто-нибудь упоминается как счастливый человек, то имеется в виду, что он потерял осторожность» (Aeschylus, 193).
Эта сдержанность, несомненно, имела свою положительную сторону. Примечательно, что когда у Еврипида, творящего уже в новую эпоху — скептическую, — хор печалится об упадке нравственных норм, тот видит причину этого упадка в том, что «уж больше люди не стремятся избежать фтоноса богов». [134] I.A. 1089-1097.
Морализация фтоноса знакомит нас со второй характерной особенностью архаического религиозного сознания — тенденцией трансформировать как сверхъестественное в целом, так и Зевса в частности в основание справедливости. Едва ли нужно специально отмечать, что на ранних этапах своего развития религия не соотносилась с моралью ни в Греции, ни где бы то ни было: они происходили из разных источников. Можно предположить, что религия, в широком смысле слова, проистекает из связи человека с его природным окружением, мораль же — из его отношения к своим соотечественникам. Однако рано или поздно в большинстве культур наступает период кризиса, когда подавляющая часть людей перестает соглашаться с мнением Ахилла о том, что «Бог — на небесах, а в мире все неправда». Человек проецирует на космос рождающееся в нем требование социальной справедливости; когда же из внешнего пространства величественное эхо его собственного голоса возвращается к нему, грозя наказанием за проступок, он черпает из этого эха смелость и уверенность в себе.
В греческом эпосе эта ступень еще не была достигнута, но уже можно заметить некоторые признаки приближения к ней. Боги «Илиады» прежде всего озабочены защитой своего достоинства, тиме. Легкомысленная речь о боге, пренебрежение его культом, оскорбление его жреца — все это, разумеется, вызывает в нем гнев; в культуре стыда боги, как и люди, легко раздражаются из-за неуважения к себе. Лжесвидетельство проходит под той же рубрикой: боги не имеют ничего против откровенной лжи, но выходят из себя, когда их именами клянутся всуе. Однако то здесь, то там мы встречаем намеки на нечто большее. Оскорбление родителей, например, является столь тяжким преступлением, что требует особого разбирательства: подобные случаи вынуждены рассматривать подземные силы. [135] Il. 9. 456 сл., 571 сл.; ср. Od. 2. 134 сл., 11. 280. Уместно отметить, что трое из этих пассажей встречаются в сюжетах, которые можно считать заимствованиями из эпосов Великой Греции, тогда как четвертый принадлежит к «Телемахии».
Один раз говорится, что Зевс разгневался на людей, которые вершат неправедный суд. [136] Il. 16. 385 сл. О гесиодовском характере 387-388 см. Leaf ad loc; мы, однако, не рассматриваем эти строки как «интерполяцию» (ср. Latte, Arch. f. Hei. 20. 259).
Но это я считаю отражением более поздних времен; в поэме данный эпизод, как бы по недосмотру, столь обычному у Гомера, плавно переходит в сравнение. [137] См. Arthur Platt, «Homer's Similes», J. Phil. 24 (1896), 28 ff.
Ибо трудно найти в «Илиаде» свидетельства того, что Зевс озабочен справедливостью как таковой. [138] Мне кажется, что те, кто думают иначе, смешивают наказание за лжесвидетельство как раздражение на посягательство божественной тиме (4. 158 сл.) и наказание за пренебрежение гостеприимством Зевса Ксениоса (23. 623 сл.) с особым вниманием к справедливости как таковой.
Читать дальше