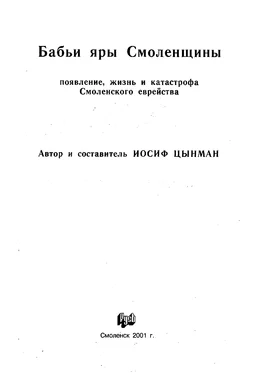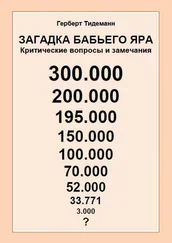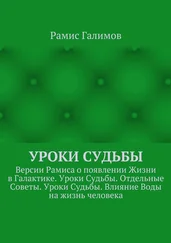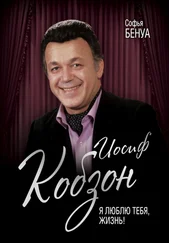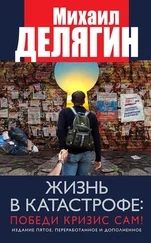В них отражен, как правило, упрощенный взгляд на проблему. Жизнь показала многосложность, противоречивость и деликатность межнациональных отношений.
Взаимоотношения евреев с местной властью, коренным населением Смоленщины и представителями других национальностей были отнюдь не безоблачными и простыми. Трения на национальной почве, случаи антисемитизма обозначались, как правило, универсальной фразой «искажение ленинской национальной политики». Таких случаев зафиксировано в документах огромное множество. Причем явления эти происходили не только на бытовом уровне, но и в цехах, сельских коллективах. Совершенно определенно можно сказать, что порой инициаторами их были местные органы власти, представители различных организаций. Было бы поспешным возводить такое положение дел в ранг политики местной власти, но и считать многочисленные факты национальных трений случайными, тем более игнорировать их, нет оснований. Осложнял жизнь еврейского меньшинства разрыв, образовавшийся между законодательством по национальному вопросу и воплощением его на местах. Отдаленность от центра, слабая материальная база, недостатки общей и политической культуры, низкий уровень профессионализма часто приводили к тому, что директивные документы, содержательные и рациональные по сути, доходили до мест в искаженном виде. Порой трудно определить, что же явилось первопричиной тех или иных недостатков в национальной работе, политика центра или ошибки и искажения ее на местах, неумение или нежелание представителей местных органов тщательно вникать в суть сложных проблем, связанных с решением национального вопроса.
Выше рассматривалось положение дел в еврейских местечках, взаимоотношения местной власти и евреев. Факты дискриминации представителей разных национальностей (в том числе и евреев) проявлялись в различных формах: насмешки в быту, травля на предприятиях, посылка в места, тяжелые для проживания, — Биробиджан с мошкарой и безводные районы Крыма, например, район Джанкоя; урезание средств, выделенных специально для нацменов, расходование их на другие нужды, чрезвычайно скудное жалованье национальным работникам, к тому же постоянно выдаваемое с задержками, притом что работники образования вообще влачили жалкое существование, несмотря на известный призыв Ленина. Выделенные для национальной работы люди часто использовались не по назначению. Многие вопросы, связанные с национальной работой, решались годами, в то же время нацменам навязывались кампании, далекие от нужд евреев, латышей, поляков, белорусов и др., например, сборы средств на самолеты и дирижабли («Латышский стрелок», «Биробиджан» и т. д.). Нежелающие платить попадали в черные списки (79).
Как правило, чем ниже был статус совета, тем меньше усилий прилагали его сотрудники и тем больше нареканий было со стороны трудящихся различных национальностей.
Выработанная годами градация в системе отчетности искажала положение дел, тем самым мешая исправлять недочеты и злоупотребления.
Зачастую документы отражали удивительную трансформацию, когда «недопустимое положение дел» каким-то непостижимым образом превращалось в «значительные достижения». Порой отношение к отчетности было, мягко говоря, не очень строгим. «…При составлении отчетов места не располагают соответствующим материалом…, возникающие вопросы решаются наспех, в большинстве неверно… Сводки составляются в последнюю минуту… данные УИКа не соответствуют действительности… Отчеты по национальной работе в высшей степени небрежны, много общих фраз. Учет неполный, хотя является единственный зеркалом избирательной кампании, но и это зеркало кривое, куда вносятся самовольные поправки, искажающие статотчетность» (80) — из доклада облисполкома о предвыборной деятельности округов за 1930 год.
Вопиющие несоответствия резолюций и истинного положения дел в нацменработе не могли не насторожить здравомыслящих людей, которые, однако, помалкивали из-за боязни лишиться права голоса или быть обвиненными в каком-либо уклоне, что грозило немалыми бедствиями. Марксистская теория по национальному вопросу, составной частью которого был чеканный лозунг основоположника: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», на первый взгляд не содержала ничего антигуманного и антидемократичного. Однако возникает вопрос: куда же девать оставшуюся часть, непролетарское население «Всемирной республики», которая виделась теоретикам? Предполагалось перевоспитание так называемого нетрудового элемента, которого, по их мнению, особенно много было среди евреев. Как нередко говорилось в документах 1930-х годов: «все латыши — кулаки, все евреи — нэпманы» (81).
Читать дальше