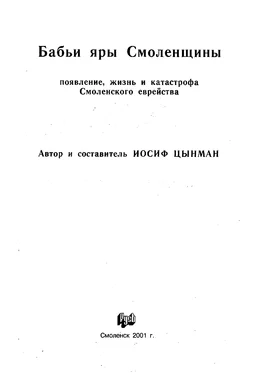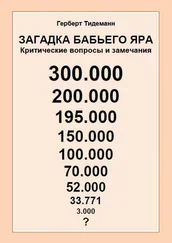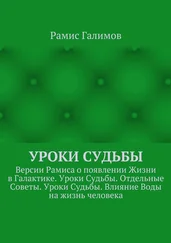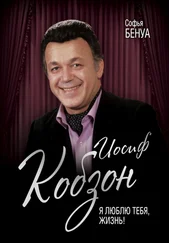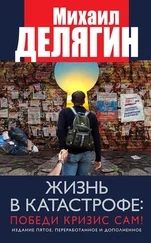И еще одна весьма важная и деликатная сфера национальной работы оказалась нерассмотренной: антирелигиозная работа среди евреев. Вернее сказать, она должна была быть таковой при соответствующем отношении органов, занимавшихся ею.
В жизни местечковых евреев религия занимала существенное, особое место, по традиции, сложившейся еще в дореволюционное время. Оставался высоким признанный авторитет раввинов, меламедов и других, игравших большую роль в деятельности еврейских религиозных школ: хедеров, ешиботов.
Жесткая, основанная на лжи антирелигиозная пропаганда, проводимая опять-таки кампанейскими методами, неуместный антирелигиозный раж, проявляемый наспех сколоченными ячейками ОВБ (общество воинствующих безбожников), антихедерные мероприятия и кампании по закрытию синагог — все это предмет отдельного и обстоятельного разговора.
В заключение следует сказать о местных органах власти, людях, которые осуществляли национальную политику на местах. Для районных органов власти была характерна незначительность бюджетов, невозможность самостоятельного планирования, ограниченные возможности в том же школьном деле… Только 10 % сельских советов имели самостоятельные бюджеты, да и то главным образом на основе не собственных финансовых источников, а штрафов населения. Если к этому добавить плохо развитую сеть дорог и связь, а также низкий культурный и управленческий уровень районных работников, то получим картину, на фоне которой происходила национальная работа. Экономическое и правовое обеспечение национальных культработников зачастую перекладывалось на руководство местного уровня, от которого одновременно требовали первоначального выполнения планов хозяйственного, а не культурного развития (100). С конца 1920-х годов абсолютный приоритет в работе местных органов отдавался заготовкам хлеба и других продуктов для великих строек. Работа членов исполкомов разных уровней оценивалась в основном по этому показателю. И если за недочеты в национальной работе партийный или советский служащий того или иного ранга мог отделаться выговором, то за срыв хлебозаготовки мог лишиться своей работы или отправиться в места, не столь отдаленные. Нижеприведенные документы только частично отражают ужас тех времен: «Работа партийных и советских организаций будет оцениваться по результатам хлебозаготовок» (101). «Твердое задание», «красные обозы» являлись формой крепостничества в деревне среди русских, польских, латышских, еврейских крестьян. Пожалуй, процент твердозаданцев среди евреев был даже большим, чем среди коренного населения, причем, к твердому заданию могли привлечь за что угодно: нищих еврейских мелких торговцев и кустарей-одиночек, представителей других слоев за агитацию против колхоза, «как выделяющегося мнением от остальных граждан в деле социального строительства» (102).
Сейчас уже ни для кого не секрет, какой была участь, так называемых, твердозаданцев и лишенцев, которые практически вычеркивались властями из жизни. «Мы не заинтересованы в том, чтобы вообще росло количество продуктов в сельском хозяйстве, мы заинтересованы в том, чтобы количество продуктов росло у бедняцко-середняцкой массы деревни…, если они (твердозаданцы) умирают, туда им и дорога» (103). Надо сказать, что и сами представители местной власти находились в незавидном положении: «Мы — члены сельсовета, а не знаем, кому угодить. Если не выполнишь распоряжение власти — не хорош, выполнишь — населению не уладишь. И кому тут молиться — сам не знаешь» (104).
А высокое начальство отнюдь не шутило, посылая грозные повеления: «…обком постановил, что «перелом» в колхозном движении должен быть создан немедленно» (105).
Цинизм, жестокость и в то же время абсурдность подобных высказываний далеко не в полной мере отражают обстановку 1930-х годов, когда национальная работа начала сворачиваться.
Вплоть до 1934 года действовала государственная система мер по защите прав нерусского населения в области образования на родном языке. В это время происходит отход от ленинских принципов национальной школы. Теоретической основой новой политики была сталинская идея форсированной «интернационализации» всех народов СССР, в интересах создания национально-однородного общества. Механизмом такой «интернационализации» должны были стать школы. В 1934 году происходит упразднение специальных национальных органов просвещения (совнацменов-комнацев), в 1937 году ликвидируются национальные районы и сельсоветы, другие организации (106). То тихой сапой, то откровенным насилием разгромлены национальные колхозы, центры культурной жизни — нацмен-клубы и театры (107). Многочисленные национальные анклавы (латышские, литовские колонии, еврейские местечки) на Смоленщине теряют звено в государственной структуре, обеспечивавшее им организацию школьного дела. Национальные школы преобразовываются в школы обычного типа (108). Под флагом борьбы с «национал-уклонизмом» идет разгром национальной, в том числе еврейской интеллигенции. Национальное преследуется как националистическое (109). В Смоленском областном архиве не встречаются материалы о репрессиях, которым в послеоктябрьский период подвергалась значительная часть населения, в том числе зажиточные, служители культа, деклассированные и даже беднота — требовалось по разнарядкам постоянное пополнение лагерей, где заключенные возводили «Великие стройки»: каналы, гидростанции, гигантские предприятия, проектировали самолеты.
Читать дальше