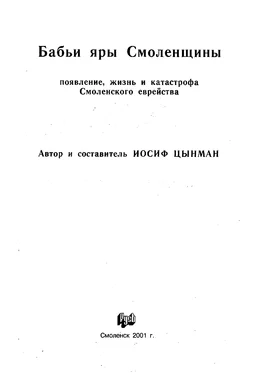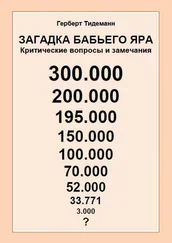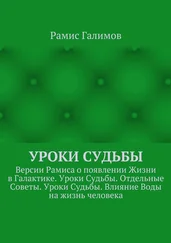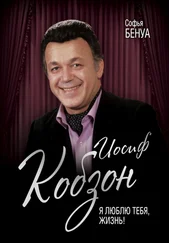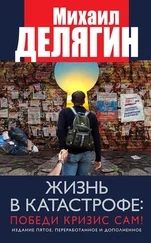Сеть национальных еврейских школ I ступени была второй по численности после белорусских, зато повышенных еврейских школ (семилеток, ФЭС, ШКМ) было больше, чем белорусских: 63 и 58 соответственно. Дошкольные учреждения в первый год пятилетки были развернуты главным образом среди еврейского населения (28). Постоянно росло количество учащихся евреев на родном языке: в 1929/30 учебном году: по начальной школе — 2030 человек, по средней школе — 650 человек. Процент охвата на родном языке — 16.
В 1932/33 учебном году: по начальной школе — 3086 человек, по средней — 1514. Процент охвата — 23,7. Процент роста 52 и 233 (!) (29).
Подобные показатели с другими национальностями, проживавшими на Смоленщине, несопоставимы.
Организуя в Смоленской губернии культурно-просветительную работу, власти исходили из того, что «еврейское население губернии может быть разделено на 3 района: 1) местечки Смоленского и Рославльского уездов в 12000 человек, у которых разговорным языком считается исключительно еврейский. На родном языке здесь говорят 83 % детей, или 1151 человек. Всего детей 1387; 2) ко 2-му району могут быть отнесены Смоленск, Рославль, Починок, Стадолище, где имеется 17000 человек. Население данного района говорит на двух языках. Общее количество детей школьного возраста 1694, детей, разговаривающих на родном языке — 1408 или 83 %; 3) к 3-му району могут быть отнесены города других уездов (7000 евреев), у которых разговорным и родным языком считается русский и еврейский. В этих районах дети в большинстве говорят по-русски. На еврейском говорят 257 детей. В этом районе не ведется никакой работы. Необходимо иметь 8 комплектов (школ), имеется ноль комплектов.
Нашими задачами являются: 1) ориентировка главным образом на первый район с обслуживанием населения на 100 %, популяризация еврейских культурных учреждений; 2) усиление политпросветработы во втором районе; 3) борьба с тенденциями искусственного насаждения еврейского языка, а также борьба против удерживания административными мерами еврейских детей, не владеющих языком в еврейских школах» (30). Здесь следует добавить, что документы содержат сведения о далеко не единичных подобных случаях. Были и случаи, когда, например, «у еврейского населения Смоленска еще и поныне существует мысль, что незачем посылать своих детей в еврейскую школу, что, мол, еврейский язык не культурный язык, а какой-то «жаргон», на котором нельзя выразить свои мысли и чувства. Поэтому большинство родителей еще предпочитают отдавать своих детей, владеющих еврейским языком, в русскую школу» (31). Это объяснялось не только вышеизложенными, но и другими причинами: недостатком школ второй ступени на еврейском языке, лучшим состоянием русских школ и некоторыми другими: «Квалификация работников просвещения, обслуживающих нацмен, очень низка, гораздо ниже, чем по великорусской линии, — говорится в протоколе об обследовании национальных школ, — материальное состояние нацменучреждений скверное» (32).
В Великолукском округе грамотность евреев на русском языке составляла — 78 %, на еврейском — 44 %.
Постоянная нехватка материальных средств провоцировала, подпитывала и другие недостатки в работе еврейских учреждений, срывала многие планы: «На 1931 год предполагается большой рост национальных учреждений (изб-читален — до 81, клубов — до 12 и т. д.), но ввиду финансовых затруднений особого роста нет» (33). О недостатке школ уже упоминалось. Недостаток учителей на еврейском языке, а также учебников и учебных пособий приводил к тому, что «еврейские дети зачастую были переводчиками на уроках» (34). «Месячные курсы и конференции по повышению квалификации дают мало, также кафедры при вузах, к тому же курсы недоукомплектованы…, что следует отнести за счет невнимания местных властей» (35).
3. Кое-что о еврейских местечках
Невнимательным было отношение местных властей не только к вопросам просвещения еврейского населения, но и к своеобычности всего жизненного уклада еврейских местечек: профессиональной деятельности, хозяйственной жизни, способах заработка, бытовым особенностям. Порой местные власти не могли или не хотели вникать в суть сложных и многообразных проблем межнациональных отношений, зачастую же мешал работе низкий политический, профессиональный, наконец, общеобразовательный уровень исполнителей.
Одной из основных задач местной власти был раскол местечковой массы. Сплошь и рядом, не прикладывая усилий к улучшению жизни местечек, они, тем не менее, строго следили за чистотой классовой линии: «К делу благоустройства местечек привлекаются пожарные дружины, располагающие живым и мертвым инвентарем. В одном местечке пожарной дружиной поставлено 12 электрических фонарей, исправлены некоторые улицы. Надо сказать, что в исполнительных органах и на командных постах пожарных дружин слишком много торговцев, порой крупных, играющих большую роль в еврейских религиозных общинах. Через пожарные общества торговый элемент себя легализует и проводит свое влияние» (36). Вывод из сказанного сделан весьма «разумный», хотя вполне логичный с точки зрения чистоты классовой линии: «…Участие пожарных дружин в работах по благоустройству, в особенности, где это проводится без руководства и инициативы со стороны сельсоветов, безусловно, нежелательно и вредно. Нужно изгнать торговцев из исполнительных органов и командных постов пожарных дружин» (37). Даже благоустройство местечек власти старались «пронизать пролетарски-классовым боевым большевистским интернациональным содержанием.»
Читать дальше