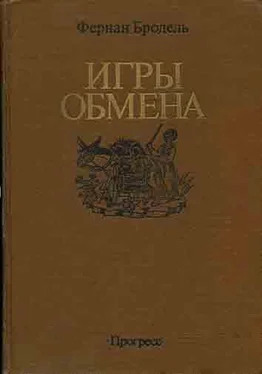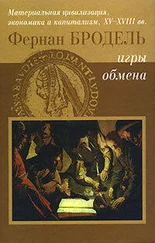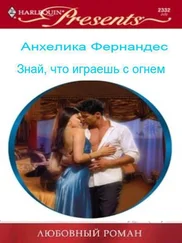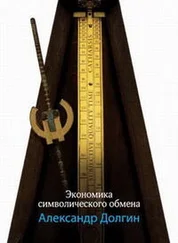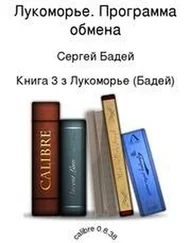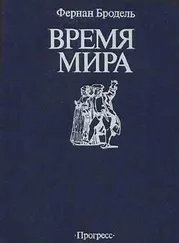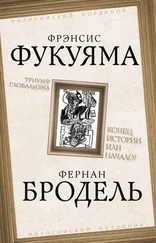Итак, три мира. В первом томе этого труда мы отвели главную роль потреблению. В последующих главах мы займемся обращением. Очередь трудных проблем производства наступит последней 6 6 Ardant G. Théorie sociologique de l'impôt. 1965, p. 363. «Производство как таковое очень трудно ухватить».
. Не то чтобы можно было бы оспаривать мнение Маркса или Прудона о них как о важнейших. Но наблюдающему в ретроспективе, а именно таков историк, трудно начинать с производства — области запутанной, которую нелегко очертить и которая еще недостаточно описана во всех своих деталях. Напротив, обращение обладает тем преимуществом, что легко доступно наблюдению. В нем все подвижно и говорит об этом движении. Шум рынков безошибочно достигает наших ушей. Право же, без всякой похвальбы, я могу увидеть купцов-негоциантов и перекупщиков на площади Риальто в Венеции около 1530 г. из того же окна дома Аретино, который с удовольствием ежедневно созерцал это зрелище 7 7 Molmenti Р. La vie privée à Venise. 1896, II, p. 47.
. Могу войти на амстердамскую биржу 1688 г. и даже более раннюю и не затеряться там — я едва не сказал: играть на ней, и не слишком бы при этом ошибся. Жорж Гурвич сразу же возразил бы мне, что легко наблюдаемое рискует оказаться ничтожным или второстепенным. Я не так в этом уверен, как он, и не думаю, что Тюрго, взявшийся за весь комплекс экономики своего времени, был бы совершенно не прав, выделив обращение. И потом, генезис капитализма жестко привязан к обмену — разве это не заслуживает внимания? Наконец, производство означает разделение труда и, значит, обязательно обрекает людей на обмен.
Впрочем, кому бы пришло в голову действительно преуменьшать роль рынка ? Даже простейший рынок — это излюбленное место спроса и предложения, место обращения к услугам ближнего, без чего не было бы экономики в обычном понимании, а только жизнь, «замкнутая» (по-английски «встроенная», embedded ) в самодостаточности, или не-экономика. Рынок — это освобождение, прорыв, возможность доступа к иному миру; возможность всплыть на поверхность. Деятельность людей, излишки, которые они обменивают, мало-помалу проходят через этот узкий пролом, поначалу с таким же трудом, с каким проходил через игольное ушко библейский верблюд. Затем отверстия расширились, число, их возросло, а общество в конечном счете сделалось «обществом со всеобщим рынком» 8 8 См. рецензию Фройнда (Freund J.) на кн.: MacPherson С. В. La Théorie politique de l'individualisme possessif de Hobbes à Locke.— “Critique”, juin 1972, p. 556.
. В конечном счете и, значит, с запозданием; и в разных областях это никогда не случалось ни одновременно, ни в одной и той же форме. Следовательно, не существует простой и прямолинейной истории развития рынков. Здесь бок о бок сосуществуют традиционное, архаичное, новое и новейшее. Даже сегодня. Конечно, легко набрать наглядные картинки, но их невозможно точно соотнести друг с другом. И это относится даже к Европе, случаю привилегированному.
Не связана ли эта в некотором роде наводящая на размышления трудность также и с тем, что поле нашего наблюдения, время с XV по XVIII в., все еще недостаточно по своей продолжительности? Идеальное поле наблюдения должно бы было простираться на все рынки мира с момента их зарождения до наших дней. Это огромная область, которую в недалеком прошлом вознамерился со страстью иконоборца объяснить Карл Поланьи 9 9 Прежде всего в книге, изданной совместно с К. Аренсбергом и X. Пирсоном: Polanyi К., Arensberg С. М., Pearson H. W. (eds.). Trade and Market in the Early Empires. Economics in History and Theory. Glencoe, 1957 (французский перевод: “Les Systèmes économiques dans l'histoire et dans la théorie”. 1975).
. Но охватить одним и тем же объяснением псевдорынки древней Вавилонии, потоки обмена первобытных жителей сегодняшних островов Тробриан и рынки средневековой
Венеция, мост Риальто. С картины Карпаччо, 1494 г. Венеция, Академия. Фото Жиродона.
и доиндустриальной Европы — да возможно ли это? Я вовсе не убежден в этом.
Во всяком случае, мы не будем с самого начала замыкаться в рамках общих объяснений. Мы начнем с описания. Для начала — Европы, главного свидетеля, свидетеля, которого мы знаем лучше других. А затем — не-Европы, ибо никакое описание не подвело бы нас к начаткам заслуживающего доверия объяснения, если бы оно не охватывало весь мир.
ЕВРОПА: МЕХАНИЗМЫ НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ ОБМЕНОВ
Итак, прежде всего Европа. Еще до XV в. она элиминировала самые архаичные формы обмена. Цены, которые мы знаем или о существовании которых догадываемся, — это начиная с XII в. цены колеблющиеся 10 10 Imbert G. Des Mouvements de longue durée Kondratieff. 1959.
: доказательство того, что наличествуют уже «современные» рынки и что они, будучи связаны друг с другом, могут при случае наметить очертания систем, связей между городами. В самом деле, практически только местечки и города имели рынки. В редчайших случаях деревенские рынки существовали еще в XV в. 11 11 Случай сохранил нам несколько изображений рынка в Пюилубье, маленькой деревушке Прованса, в 1438—1439 и 1459—1464 гг. Там продавали пшеницу, овес, вино, баранов, холощеных козлов, шкуры и кожи, мула, осла, жеребенка, свиней, рыбу, овощи, разное растительное масло, кули с известью. См.: Coulet N. Commerce et marchands dans un village provençal du XVI e siècle. La leyde de Puyloubier.—“Études rurales”, № 22, 23, 24, juillet-décembre, 1966, p. 99—118; Everitt A. The Marketing of Agricultural Produce.— The Agrarian History of England and Wales. (Ed. Finberg M. P. R.), IV: «1500—1640». 1967, p. 478.
, но то была величина, которой можно пренебречь. Город Запада поглотил все, все подчинил своим законам, своим требованиям, своему контролю. Рынок сделался одним из его механизмов 12 12 Huvelin P.-L. Essai historique sur le droit des marchés et des foires. 1897, p. 240.
.
Читать дальше