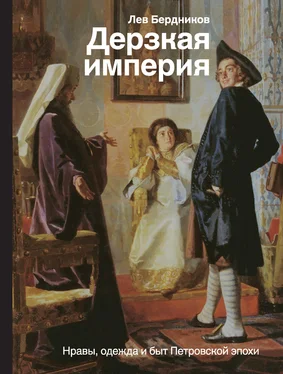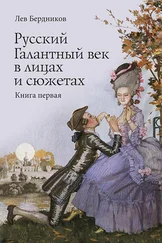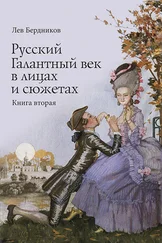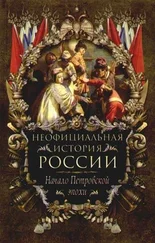Взойдя на российский престол, Екатерина не стала призывать к себе бывшего любовника. «Предполагают, – доносили королю прусскому Фридриху II, – что она нашла это назначение (Салтыкова посланником в Париж. – Л. Б. ) самым удобным средством, чтобы удалить его от своего двора и вместе с тем дать возможность жить в довольстве…» Некоторые исследователи утверждают, что дипломатическая карьера Сергея Васильевича вполне задалась; она как нельзя более подходила натуре изощренного интригана. Между тем представители стран, где он был аккредитован, придерживались противоположного мнения. Так, Версальский двор прямо высказал свое недовольство поступками Салтыкова. «Еще недавно он был заключен в тюрьму, – сообщали из Парижа, – как за долги, так и за различные дурные проделки. Покидая тюрьму… он принужден был, как поруку в уплате, оставить во Франции свою жену… Во Франции все его презирают…» Да и сама Екатерина наложила в 1764 году такую резолюцию на ходатайство графа Никиты Панина о назначении Салтыкова посланником в Дрезден: «Разве он еще не довольно шалости наделал? Но если вы за него поручаетесь, то отправьте его, только он везде будет пятое колесо у кареты».
О дальнейшей судьбе Салтыкова известий в печати не встречается – в биографических справочниках не указывается даже год его смерти. Есть сведения только о его жене Матрене Павловне, урожденной Балк-Полевой. До своей кончины в 1813 году она жила в Москве, в собственном доме, на углу Большой Дмитровки. Переулок около этого дома получил название Салтыковский. Она была набожна и регулярно жертвовала средства в Успенский собор. Известно также, что сам Сергей Васильевич совершил по крайней мере один благочестивый поступок: в доставшемся ему от отца сельце Ершово, что под Звенигородом, построил вместо обветшавшей новую церковь, которая простояла до 1829 года.
Мемуарист Шарль Франсуа Филибер Массон говорит, что Салтыков «умер в изгнании». Однако Николай Греч, близко знавший племянника Салтыкова, сообщает, что последние годы Сергей Васильевич «жил в своих деревнях до кончины своей», и называет дату его смерти – 1807 год. Дожив до восьмидесяти лет, не превратился ли он под старость в брюзжащего моралиста – участь многих донжуанов? Вспоминал ли он о шашнях своей молодости, о великой княгине и об обидном приставшем к нему прозвище – демон интриги?
Из щеголей – в меценаты. Семен Нарышкин
Этот представитель роскошного русского барства обладал тем счастливым качеством, которое А. С. Пушкин назвал «необыкновенное чувство изящного». Семен Кириллович Нарышкин (1710–1775) слыл первым щеголем своего времени и одновременно славился «прекрасными сведениями о многих предметах». Это в XIX веке возобладает мнение, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» и щегольство вполне может сочетаться с ученостью. А в русском XVIII веке такой культурно-исторический тип встречался редко (можно указать, пожалуй, лишь на графа Кирилла Разумовского и обер-камергера Ивана Шувалова) и воспринимался как нечто парадоксальное. Ведь бездумный легкомысленный петиметр и ученый-педант (так аттестовали тогда «книжных червей», склонных к схоластическим умствованиям) в итальянской комедии масок, в театре западноевропейского, да и русского классицизма – это два совершенно самостоятельных персонажа. И осознавались они как прямо противоположные. Насколько жалок и смешон педант, выступающий в роли волокиты, блистательно показал Александр Сумароков в комедии «Тресотиниус» (1750), где такой вот несостоявшийся петиметр получил полный любовный афронт. Можно назвать в качестве курьеза лишь одно произведение отечественной словесности (и, что характерно, сатирическое), где фигурируют «педант и петиметр» в одном лице. Литератор Алексей Ржевский в журнале «Свободные часы» (1763, апрель) сообщает, что таковой «за ученейшего человека почитается среди красавиц и вертопрахов», он отчаянно щеголяет латынью, которую незадачливые петиметры не разумеют, а потому («эрго!») соглашаются с его «неоспоримыми» доводами.
Знал ли Семен Нарышкин довольно по-латыни, достоверно неизвестно, но французским и немецким языками он владел вполне свободно. Об этом позаботился его отец, Кирилл Алексеевич Нарышкин (1670–1723), сподвижник Петра I, его ближний кравчий, первый комендант Санкт-Петербурга, потом московский губернатор. Он дал сыну превосходное домашнее образование. Родовитый вельможа, состоявший в родстве с самим государем, Нарышкин-старший стремился воспитать в сыне патриота России и «гражданина Европии», что тогда ни в коей мере не противоречило одно другому. Семен, благодаря своему знатному происхождению, был с ранней юности обласкан и приближен ко двору: при императоре Петре II он получил должность камер-юнкера.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу