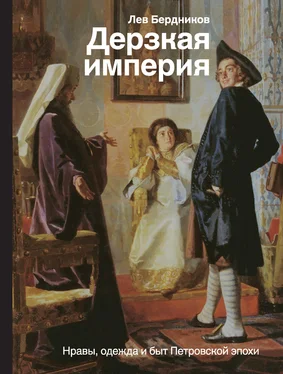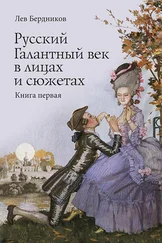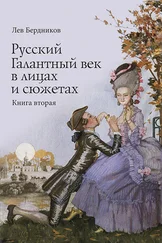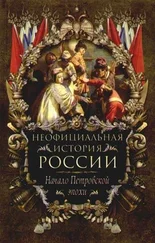Однако увлечение Шуваловым поначалу не помешало Елизавете иметь одновременно с ним трех других фаворитов. И хотя императрица отдавала Ивану явное предпочтение, трудно согласиться с историком Виктором Наумовым, утверждающим, что она испытывала к Шувалову «глубокое и сильное чувство». Императрица-щеголиха, императрица-вакханка, она смолоду отличалась «рассеянной жизнью» и была падка лишь на внешний эффект. Бесспорно одно – Шувалов привлек ее внимание не своим «скучным» книгочейством, а молодым задором и щегольством. А мода была для Елизаветы делом первостепенной важности. Законом для ее двора стали французские образцы и французская грация.
И как не вспомнить тут маркизу Помпадур, с именем которой связана целая эпоха в истории моды: она ввела в светский обиход высокие каблуки и высокие прически (поскольку была маленького роста), маленькую дамскую сумочку ридикюль, а также известный камин «Помпадур-пети». Шувалов, хотя и не был законодателем в сфере одежды, всегда носил наряды в последнем парижском вкусе и также служил придворным образцом для подражания. Правда, в отличие от Помпадур, которая слыла большой мотовкой, он был более сдержан и бережлив. Его костюмы были нарядны, но лишены бьющей в глаза роскоши, отличавшей платья таких великосветских модников того времени, как Семен Нарышкин, Петр Шувалов, Иван Чернышев, Кирилл Разумовский, Степан Апраксин, Петр Шереметев и др. К примеру, один из кафтанов Семена Нарышкина не только изобиловал драгоценностями, но заключал в себе шитый золотом узор в виде экзотического дерева, ветви которого отливали чистым серебром. Поистине азиатской пышностью славился и кузен Ивана Петр Шувалов – он носил бриллиантовые застежки даже на ботинках. А гардероб генерал-фельдмаршала Степана Апраксина был столь велик, что едва размещался на обозе из десятков карет.
Поистине зоологическую ненависть вызывали у Елизаветы те, кто обращал на себя внимание ее фаворитов, и прежде всего, конечно, Шувалова. Историк Алексей Степанов сообщил следующее: «Все заподозренные в романе с Шуваловым арестовывались и отправлялись в заключение. Даже замужних женщин и матерей и тех не щадила бездушная рука петербургской инквизиции: их силой вырывали из рук мужей, уводили от плачущих сирот, и все это по одному лишь подозрению, в действительности даже часто лишенному всякого основания».
Причем Елизавета ревновала своих любимцев даже к прошлому: современники свидетельствуют, что монархиня была сильно ожесточена против княжны Анны Гагариной, бывшей некогда дамой сердца Шувалова, и третировала ее при каждом удобном случае. Дело дошло до того, что придворные красавицы даже боялись попадаться на глаза Ивану и «смотрели на него, как на чуму, от которой надо бежать», – и это несмотря на свойственные ему любезность и галантность! Они возненавидели фаворита, ставшего невольной причиной монарших нареканий и возможной их опалы. Ходили слухи, что в насмешку над Шуваловым некоторые фрейлины завели себе пуделей и назвали их Иванами Ивановичами. Екатерина II сообщает, что эти дамы «заставляли пуделей выделывать разные штуки и носить светлые цвета», в которые любил рядиться и Шувалов. Впрочем, Елизавета быстро пресекла это «безобразие».
Шувалова называли галломаном. По словам Казимира Валишевского, он был «самым убежденным франкофилом той эпохи». Иван, по мнению иностранных дипломатов, обладал «чисто французской манерой держаться и говорить», глубоко интересовался литературой французского Просвещения и вел оживленную переписку с Вольтером, Дени Дидро и Клодом Адрианом Гельвецием. Говорили даже, что его дом походил своими украшениями на манжетки алансонского кружева.
Конечно, и до Шувалова русские дворяне заводили французские библиотеки и выписывали для своих детей французских гувернеров. Учиться говорить по-французски заставляла нужда, потребность образования. Не только в России, но и во всей Европе владение французским языком, знание французской литературы и французского политеса были необходимы для светского человека. Однако именно в России соблазны Франции породили особый культурно-исторический тип. Историк Василий Ключевский назвал его – «елизаветинский петиметр» и связал его появление с одним из этапов развития русского дворянства. Думается, однако, что это известное обобщение: ведь в ту эпоху слово «петиметр» имело ярко выраженный негативный, пренебрежительный оттенок. Особенно рельефно это проглядывает в комедиях А. П. Сумарокова 1750-х годов, где бичуются пустота, невежество, дурная нравственность, галломания новоявленных щеголей, их презрение к своему Отечеству. Примечательна и статья «Petite-maitre» в издаваемом тогда «Новом лексиконе на францусском, немецком, латинском и на российском языках…» (1755–1764), где этому слову дается такое определение: «Молодой человек, который много о себе думает и лучше себя никого не ставит».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу