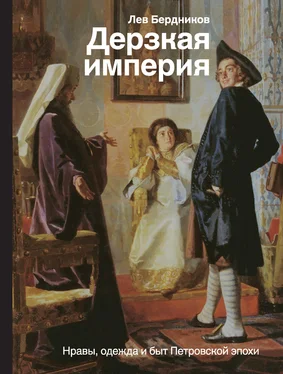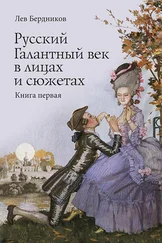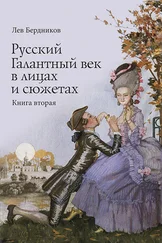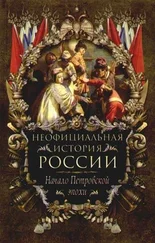Несмотря на фиаско при дворе, Бекетов, по словам исследователей Ивана Мартынова и Ирины Шанской, во мнении многих оставался «эталоном истинного петиметра» (то есть щеголя-галломана) и знатоком в амурных делах: «По всей России ходили слухи о его дорогих и экстравагантных нарядах. Не менее широкой известностью пользовались любовные похождения этого редкостного красавца, щедрого кутилы и галантного острослова».
В начале 1750-х годов литератор Иван Елагин написал «Сатиру на петиметра и кокеток» (1753). Разразилась жаркая литературная полемика о щеголях. В числе ее материалов было и стихотворное «Письмо к Бекетову», принадлежавшее перу преподавателя Артиллерийского и инженерного корпуса Николая Муравьева. Последний отчаянно спорит с Елагиным и его сторонниками, видевшими в петиметрстве опасный общественный порок, и обращается к авторитетному Бекетову для подтверждения собственной позиции. Начав свое послание с филиппики ученым-педантам, Муравьев сосредоточивается на «советах влюбленным». Он воспевает дерзость в любви, порицает бесполезную ревность, которая «паче всех мученьев на свете», и приглашает к разговору самого Бекетова. И Никита Афанасьевич ответил Муравьеву стихами «Правила как любиться без печали. Письмо к приятелю». Проникнутое здоровым гедонизмом, «Письмо» отвергает переживания безответной любви как бесплодные, глупые и анахроничные для XVIII века:
Сурова кто к тебе – престань о том вздыхать
И злым мучением приятства обретать,
Томитца страстью злой – то было в древни веки,
Тех нет теперь времен, не те и человеки.
Бекетов – сторонник любви тайной, удаленной от чужих глаз и неподвластной досужим судачествам света:
Когда с обех стран страсть нежна изъяснитца,
То должно обоим отнють того хранитца,
Чтоб новой сей любви никто не мог узнать.
Кто может тайною любовию пылать, —
В прямой тот роскоши, веселье пребывает,
Молчание сердца в любови услаждает…
Может показаться странным, что Бекетов, несмотря на свое женолюбие и бурную молодость, так и остался холостяком. Возможно, какие-то властные нити связывали его с Елизаветой, имевшей сильную любовную харизму (ведь так и не женились и другие ее фавориты – Иван Шувалов и Алексей Разумовский). Никакими сведениями о дальнейшей личной жизни Бекетова мы не располагаем. С Никитой Афанасьевичем, подобно многим деятелям XVIII века, произошла метаморфоза – щегольская юность, которую Ломоносов назвал «златой младых людей и беспечальный век», сменилась зрелостью, посвященной серьезной государственной деятельности на благо Отечества.
На полях брани Семилетней войны он стяжал себе славу отважного воина. И как не поспорить тут с Екатериной II, говорившей, что Никита был слишком изнежен для военного ремесла.
После сражения при Гросс-Егерсдорфе (август 1757 года) он был назначен командиром 4-го гренадерского полка, с которым участвовал в занятии Кенигсберга (январь 1758 года), осаде крепости Кюстрин и сражении при Цорндорфе (август 1758 года). В последней баталии полк Бекетова был почти весь уничтожен фланговыми атаками неприятеля, а сам командир вместе с графом Захаром Чернышевым попал в плен к пруссакам, где провел целых два года. В народе даже сложили об этом песню:
Как возговорит прусский король:
«Ой ты гой еси российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич,
Со своим ли сотоварищем,
Со Никитой Афанасьичем
По фамилии Бекетовым!
Послужите мне службу верную,
Как служили вы монархине!»
Как возговорит российский граф,
Чернышев Захар Григорьевич:
«Послужу я тебе службу верную,
Что своей ли саблей острою,
На твою ли шею толстую».
Вернувшись из неволи, Бекетов был произведен в бригадиры, а в 1762 году – в генерал-майоры. Императрица Екатерина II в 1763 году назначила его астраханским губернатором. Деятельность Бекетова на этом посту была исключительно продуктивна. Губернатор построил Енотаевскую крепость для защиты местных жителей от набегов киргизов. Под его непосредственным патронажем было основано поселение Сарепта, где разместились приглашенные из Германии колонисты – так называемые моравские братья. Это было живописнейшее место неподалеку от Царицына, с холмами, покрытыми густым лесом, на берегу впадавшей в Волгу реки Сарпы. Название оно получило от древней сирийской Сарепты, упоминаемой в Ветхом Завете, где говорится: «Как повелел Господь устами пророка Ильи: “Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там”», и далее: «где мука в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет». Примечательно, что герб астраханской Сарепты заключал в себе сосуд, колосок и масличное дерево с елейной кружкой под ветвями. Переехавшие сюда немецкие пасторы-миссионеры обращали кочевых калмыков в христианство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу