Принятые таким образом — совершенно свободно, «чистосердечно» — обязательства основывались на той морали, в которой наставлял будущего вассала тот, кто руководил двором, вместе со своими помощниками, учеными мужами. И когда в XII веке эта мораль выражается уже не только устно, когда она находит воплощение в героических персонажах, которые литература ставит в пример воинам, историк обнаруживает ее несущую конструкцию — лояльность, преданность. Создатели нравоучительных поэм того века, заимствуя у Сенеки и Цицерона понятие дружбы, трудились ради того, чтобы придать больший положительный смысл взаимным обязательствам сеньора и вассала, которые должны полностью принадлежать друг другу, забывая о себе во имя блага другого. От силы этого императива зависело сохранение мира в среде людей, ездивших на лошадях и владевших мечом, живших за счет того, что они отбирали у черни. Чувство долга должно было иметь достаточную силу, чтобы пресекать раздоры в военном обществе, которое отличали алчность, склонность к насилию, беспрестанно порождавшему озлобленность и мстительность. Хозяину замка постоянно приходилось мирить споривших между собой рыцарей «первого разряда», которые не жили под его крышей. Все они кичились своими знатными предками. Именно благодаря происхождению эти рыцари считались людьми благородными. Благородство обязывает быть добродетельным по примеру предков, но оно и освобождает от любого подчинения.
Адальберон Лаонский говорит об этом в своей поэме, обращаясь к королю Роберту: «Людей благородных отличает привилегия — свобода от всякого принуждения со стороны любой власти, при условии, что они не совершат преступления, которое карает королевский скипетр». Неприкосновенность не была полной. Но если королевская власть становится шаткой, как это произошло в XI веке, то кто будет карать преступников, в жилах которых течет голубая кровь?
Поскольку рыцари округи благодаря оммажу становились как бы сыновьями сеньора, на них распространялась его юрисдикция. Этим правом он, однако, пользовался с осторожностью. Иногда сеньор прибегал к магической процедуре «суда Божия» — ордалии, организовывал «баталии», чтобы погасить «смертоубийственную ненависть». Такие «баталии» представляли собой некую узаконенную форму вендетты. Происходила схватка двух противников, один на один, при публике, в огороженном пространстве. Поиск справедливости в данном случае приобретал вид игры, спортивного состязания. В иных же случаях сеньор выступал как посредник, выслушивая друзей каждой из противных сторон. Он был рад, если по достижению договоренности между ними, когда противники в чем-то уступали друг другу, совершался обряд примирения, скрепляемый ритуальным целованием. По существу, вся действенность власти сира» зависела от его гостеприимства, застольного общения. Рыцари вели себя более миролюбиво, если они росли рядом с товарищами. Именно поэтому, выполняя клятву верности, воин, который не жил постоянно в замке, должен был приезжать туда на несколько дней по приглашению его хозяина, оставлять там своих сыновей на время их отрочества.
Когда людей войны «оклеточивали», включали в «ячейку», среди них тоже воцарялся порядок. Этот процесс происходил в товарищеских компаниях, участников которых тесно сплачивали совместные боевые вылазки, застолья во главе с их патроном. В пирах проявилась прежде всего еще одна его добродетель — щедрость. Расточая милости, сеньор поддерживал преданность своих вассалов, залог согласия. Он был обязан одаривать их всем, что доставляла ему власть. Так он платил за то, что ему служили. Единственный вид ограничения, который терпят рыцари в тесном пространстве округи, проистекает из того, что дар предполагает взаимность. От хозяина башни ждут удовольствий, праздников, жены, средств на обустройство, наконец, фьефа, позволяющего участвовать в доходах от сеньориального хозяйства. В обмен рыцарство помогает сеньору делом и словом. Так удается несколько умерять страсти в дружинах, привязанных к каждой крепости.
Однако удовольствием, которое более всего приходилось по вкусу воинам, были боевые схватки, совместные вылазки, когда одни грабили других, отбирали у них имущество. Таким образом, беспорядок стремился выйти за пределы пространства, охраняемого замком. Нарушителями спокойствия были банды весельчаков, которые время от времени вырывались из каждого замка, подобно всепожирающей саранче. Поэтому для монахов, описывавших происходившее, militia — войско — представлялось исчадием зла (от слова malitia — зло), а само зло отождествлялось с рыцарством. Чтобы искоренить это зло, недостаточно было крепче держать в руках каждого рыцаря — его уже удерживала «стая», эскадрон, собиравшийся вокруг оборонительной насыпи. Проблему представляли сами боевые отряды, подстрекаемые к грабительским подвигам, к насилию той моралью, которая обусловливала сплоченность их рядов. Такова была коренная политическая проблема, вызванная новым распределением властных сил. Ради ее решения истощали свои силы государи, которым в каждой провинции, в принципе, подчинялись крепости.
Читать дальше
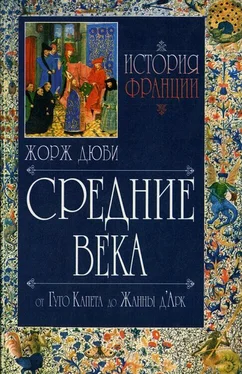


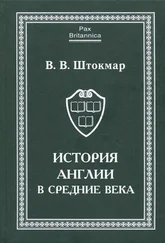

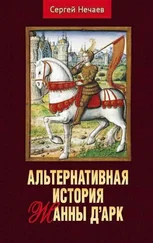
![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/389960/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s-thumb.webp)





