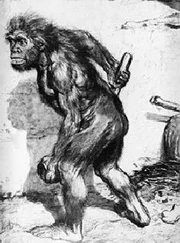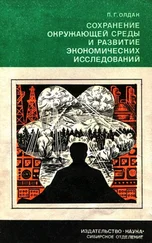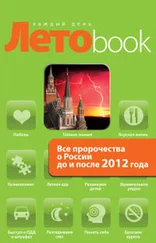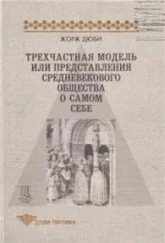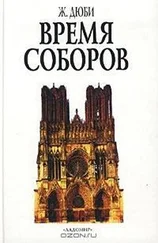Чтение таких этнологов, как Марк Оже, Клод Мейяссу, Жерар Альтаб, позволило мне понять две важные вещи.
1. Для правильного понимания экономики такого далекого прошлого, как средневековье, необходимо во что бы то ни стало освободиться от привычных форм мышления, т. е. ни в коем случае не применять к этому периоду схем и понятий, порожденных экономикой нового времени, как это сделал Пиренн, не думать, что деньги или товарообмен в XI в. Играли ту же роль, имели тот же смысл и представляли такие же ценности, что в XIX в. Я проникся необходимостью осознания того, что для европейского крестьянина XI в., так же как и для африканского крестьянина нашего времени, мир или благодать, исходящие от незримых сил, имеют такую же реальную ценность, как сев, как его собственный труд или труд его домашних животных. Я увидел, что система обмена той эпохи была основана на понятиях взаимности и перераспределения и что, как говорил уже Марк Блок, не следует принимать за «арендную плату» или за «земельную ренту» те подношения, которые крестьяне несли в монастырь или в замок; это были, в сущности, дарения, входившие в систему обмена дарами, на которой основывалось равновесие сеньории как социальной единицы. Я понял также, что внутри тех механизмов, которые мы называем экономическими, действовали и факторы бескорыстия — в играх, праздниках, жертвоприношениях; что в число потребителей входили такие весьма требовательные существа, как святые покровители и мертвые.
2. С другой стороны, чтение этнологов указало мне на необходимость детального изучения семьи, дома, структур родства, без чего невозможно понять жизнь феодального общества. О некоторых результатах этой моей работы я сообщил в докладе на Международном конгрессе историков в Москве 1970 г., куда, к сожалению, не смог приехать сам. Уже с 1955 г. я принялся изучать семью неразрывно с исследованием ментальностей;
этим я занимаюсь до сегодняшнего дня. Мои новые работы о положении женщины в аристократической среде во Франции в XI–XII вв., о ее месте в генеалогической памяти, о ее роли в духовной жизни и любовных отношениях явились завершением цикла работ о молодых холостяках и кроме того о матримониальных моделях. В моих изысканиях я далеко не одинок. Интенсивное интеллектуальное брожение, развитие смежных гуманитарных наук в 1955–1970 гг. привели французских историков к необходимости решительно обновить проблематику исторических исследований.
Последний поворот в развитии исторической науки произошел в 70-е годы: возродился интерес к политике и как следствие на первый план в исследованиях французских историков выдвинулось событие. Одновременно произошли изменения в манере изложения исторического материала. Рассказ, повествование стали приобретать все большее значение. Здесь следует сделать два замечания.
Во-первых. Прежде всего, ясно, что после всех достижений и успехов школы «Анналов» это не означало возвращения к ситуации, отвергнутой журналом в 1929 г., т. е. к изучению политической, дипломатической, военной истории в том виде, как они существовали в начале века. Сегодня французские историки возвращаются к событию, обогащенные своим полувековым опытом изучения материальных и ментальных структур, длительная эволюция которых дает подоснову для развития производственных отношений и идеологий. Изучение политической сферы в настоящее время — это не исследование простых сцеплений причин и следствий, как во времена позитивизма, а стремление рассмотреть всю совокупность многочисленных факторов, приводящих к событию и обусловливающих расстановку сил. Хочу добавить, что событие или биография не изучаются ныне ради них самих, но ради той информации, к которой они открывают доступ. Теперь их главный интерес именно в этом. Политическое или военное происшествие, поступок известной личности интересны более всего откликами на них. Высказывания современников по поводу события приподнимают завесу над обычно скрытыми структурами, определяющими поступок или деятельность знаменитого человека, над структурами, внутри которых разразился и на которых сказался кризис. Так, например, битву при Бувине 1214 г. я изучал не ради ее фактической стороны, уже полностью описанной историками-позитивистами. Я воспользовался многочисленными откликами, порожденными этим крупным событием, целой гаммой различных сведений, содержавшихся в рассказах о сражении, для того, чтобы сделать набросок своего рода социологии средневековой войны. Что касается проанализированной мною поэмы о Гийоме Ле Марешале, весь ее интерес заключался для меня в информации о рыцарском обществе и системе формирующих его ценностей.
Читать дальше