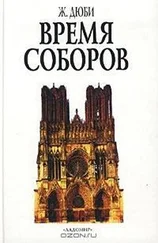Психоанализ легче всего усваивался молодыми, бурно развивавшимися гуманитарными науками: лингвистикой, антропологией, семиотикой, которые как раз в это время были предметом увлечения парижской интеллигенции. И хотя поначалу ни я, ни Мандру не были подвержены ни малейшему влиянию психоанализа, я думаю, что в значительной степени благодаря ему было столь одобрительно встречено наше предложение изучать в качестве фактора социальной истории ту совокупность полубессознательных проявлений, которой мы дали название «ментальность».
Но главной причиной популярности нашего подхода было, видимо, разочарование в возможностях экономической истории; ученые все больше отказывались объяснять историю общества и цивилизаций, предшествовавших XVIII в., ее зависимостью от экономики. Последняя представлялась нам важнейшим, но не все определяющим фактором. В истории ментальностей мы видели необходимое дополнение к изучению социальной истории через ее материальную подоснову. Таким образом, в нашей идее истории ментальностей я сегодня вижу один из первых, если не самый первый признак того большого поворота в ориентации французской исторической науки, который в полную силу определился в 60-х годах. Об этой важнейшей перемене я хотел бы сказать подробнее.
Причины, вызвавшие ее, могут быть в общих чертах разделены на две группы:
Во-первых, размышления о марксизме, колеблющие и вместе с тем обновляющие его, получили распространение накануне политического взрыва 1968 г. Речь шла о том, чтобы освободить марксизм от шелухи, от тех карикатурных искажений, в которые загнала его политическая борьба. Именно тогда я очень внимательно прочел Грамши и французских комментаторов Маркса — Альтюссера и Балибара. Знакомство с их работами укрепило во мне уверенность (основанную на моем опыте географа) в том, что так называемая надстройка имеет гораздо большее значение, чем то, которое ей обычно придают в рамках социальной истории, выводимой из экономики. Я был убежден, что теперь, после всех успехов, достигнутых экономической наукой, следует обратить главное внимание на изучение надстройки.
Не один я так думал. Среди историков, испытывавших влияние марксистской мысли, произошло тогда большое общее движение, нечто вроде пересмотра позиций. Этот поворот или, вернее, эта готовность к восприятию нового, выход из оцепенения объясняют, почему один из выдающихся современных французских историков Мишель Вовель, твердо придерживаясь марксистских взглядов, проявил себя одним из самых деятельных сторонников истории ментальностей. Этим же можно объяснить позицию Мориса Годелье, утверждавшего первичность «идейного», как он говорит, над материальным в жизни так называемых первобытных обществ.
Во-вторых: вообще-то Морис Годелье не историк, а этнолог. Здесь уже вступает в действие вторая группа причин, имевших решающее влияние на историческую науку. В 60-е годы социальная антропология, приобретшая широкую известность благодаря трудам Леви-Строса, бросила историкам форменный вызов. Обязанная своими успехами союзу со структурной лингвистикой, антропология занималась исследованиями статистических комплексов и оттесняла диахронию (т. е. историю) на второй план. Мы не могли не принять вызова.
Итак, я принялся за внимательное чтение трудов антропологов, и особенно этнологов (главным образом африканистов, потому что французские этнографы, следуя по пути, проложенному колонизацией, занимались и занимаются по сей день в основном Африкой). Знакомство с их работами имело для меня очень большое значение. Фоном моих исторических исследований выступает деревня, поскольку именно она является основой феодального общества. Сельское же общество — это практически неподвижное, «холодное», по обозначению Леви-Строса, общество. Изучение жизни средневековых крестьян не отличается по своему объекту, источникам и методам от изучения «бесписьменных» обществ, которыми занимаются этнологи.
Следует также отметить, что в это же время (любопытное совпадение!) французские историки стали проявлять больше интереса к деревне. Так, VI секцией Практической школы высших исследований, т. е. Броделем, был основан как филиал «Анналов» журнал «Этюд рюраль» («Аграрные исследования»), а одной из проблем, наиболее занимавших историков в эти годы, были отношения между городом и деревней. Здесь также уместно было бы упомянуть об одном обстоятельстве, оказавшем влияние на развитие исторической науки. Я имею виду одно из последствий деколонизации: группы французских этнологов возвратились в метрополию и принялись здесь за изучение традиционной, т. е. крестьянской, французской культуры. Так, в 60-х годах во Франции одновременно с приведением в порядок сети музеев народных искусств и традиций получила развитие «французская этнология», взявшая на себя ту же вдохновляющую роль, которую в годы моего студенчества играла география человека. К этому же времени, т. е. между 1965 и 1970 гг., следует, по-моему, отнести возникший на волне деколонизации и роста левацких настроений в интеллектуальных кругах интерес молодых французских ученых к «народным культурам», т. е. к формам культуры, подавленным господствующими классами (наподобие того, как колонизаторы подавили туземные культуры в колониях). Данное направление оказалось очень полезным и плодотворным.
Читать дальше