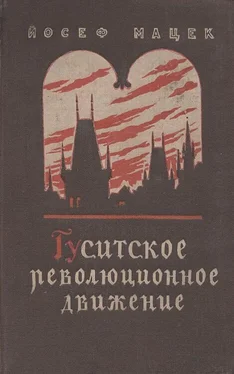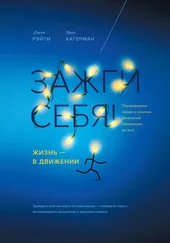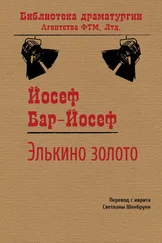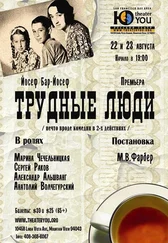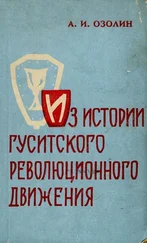Все эти трудности еще больше усилились после пятнадцатилетиих упорных боев. Буржуазная историография, разделявшая контрреволюционные взгляды католических памфлетистов и хронистов гуситского периода, не уставала твердить о том, какие опустошительные последствия имели долголетние гуситские войны, которые, по их словам, превратили цветущую страну в пустыню, а ее селения в развалины и пепелища. Мы отвергаем эти попытки возложить на гуситов ответственность за разорение страны как явную клевету на гуситское революционное движение. Но самый факт тяжелого экономического положения в стране не подлежит сомнению. По всей Чехии были разбросаны панские крепости и замки, из которых выезжали вооруженные люди на добычу и грабеж. За границей феодалы выжидали удобного случая, чтобы поживиться в «стране еретиков». Для борьбы против всех этих врагов нужно было держать постоянную армию, которая, разумеется, требовала продовольствия, одежды и вооружения, а их нужно было добывать из внутренних источников, используя труд чешского крестьянства и горожан.
Положение резко ухудшилось в результате неурожая, постигшего в тридцатые годы Центральную Европу и особенно тяжко отразившегося на Чехии. В 1432 году, например, с апреля до середины июля не было дождя. Следствием засухи был неурожай, а за ним шли его неизбежные спутники — голод и мор. Население областей, пораженных неурожаем, буквально умирало от голода, ниоткуда не получая помощи. Наибольшие страдания выпали, несомненно, на долю мелкого бюргерства и особенно бедноты.
Противники гуситов — католические священники, говорили, что это кара божья, постигшая еретиков. Узнав о несчастьях, обрушившихся на Чехию, они радостно потирали руки и пытались всячески использовать эти несчастья в своих интересах — для борьбы против гуситского движения, руководствуясь лозунгом: «Чем хуже для них, тем лучше для нас». Они высказывали лицемерные сожаления по поводу страданий чешской земли, такими сожалениями полна, например, хроника так называемого Старого коллегиата, представлявшего университетских магистров, уже перешедших в этот период на позиции католической реакции — патрициев, дворянства и церковной знати. Изобразив в мрачных красках Чехию, опустошенную гуситами (такое изображение стало уже литературным шаблоном, к которому часто прибегали в средние века), он старался всячески оклеветать революционные войска и дискредитировать в глазах читателей их борьбу. При этом члены Старого коллегиата, такие, например, как магистр Ян Пржибрам и другие, лицемерно заявляли о том, что они выступают против гуситов якобы во имя любви к родине. Эти реакционеры, тесно связавшие свою судьбу с международной реакцией, с церковной верхушкой и Сигизмундом, менее всего имели право нападать на гуситов за то, что в их войсках были чужеземцы. В лжепатриотическом тоне Старого коллегиата сквозит ярость по поводу объединения чешских и иностранных революционных сил: «А тогда много плохого наделали эти походные войска — на их совести пожары, кражи, убийства, грабежи, насилия над женщинами и девушками, опустошение церквей — все то зло, которому нет конца, так что ничего не остается, как только кричать: «Горе, горе!» — опустошено и уничтожено все королевство. Ведь в вышеуказанных походных войсках были по большей части чужеземцы, не чувствовавшие никакой любви к королевству» [183] K. Höfler, Geschichtsschreiber der husitischen Bewegung, I, str. 93 (Chronicon veteris Collegiati Pragensis).
.
К этой клевете прислушивались прежде всего бюргеры, разбогатевшие на конфискациях церковного и патрицианского имущества. Не удивительно, что теперь они не хотели и слушать о дальнейшей борьбе, о продолжении революционного наступления. Они не только овладели значительными богатствами, но и захватили власть в городах, а через представителей от городских союзов на сейме участвовали и в управлении всей страной. Такую эволюцию переживало бюргерство не только Праги, но и остальных городов, таких, например, как Табор. Микулаш Бискупец, говоря о бюргерах, растерявших свой революционный пыл, сравнивает их с сосудами, которые звучат, пока они пусты, а как только чем-либо наполняются, перестают издавать какой-либо звук: «Пустые сосуды, когда до них дотронешься, начинают звучать… Наполненные сосуды под ударом молчат, никак не отзываясь». Если обедневшие ремесленники, погибающие от голода и холода, охотно вступали в ряды походных войск, то сытые, жившие в роскоши бюргеры, эти «полные сосуды», были теперь равнодушны к борьбе революционных армий. «Относительно многих мы теперь знаем, — писал Бискупец, — что пока они были бедны, они никогда не желали отдыхать дома или желали этого очень редко и все говорили: «Я ведь никогда не живу дома, всегда в походе», но как только наполнят мешки, ранцы и кошели золотом, они сразу же, при первой возможности, начинают избегать войска, отлынивают… начинают любить пиры, напиваются, одеваются в пышные одежды, женятся и становятся толстяками и сластолюбцами» [184] Postilla Mikuláše Biskupce z Pelhřimova, ed. F. M. Bartoš, CSPSC, XXIX, str, 113.
. Упреки Микулаша по адресу таборских горожан относятся ко всему чешскому бюргерству и вызваны его отходом от революционного движения. Постоянная борьба приносила бюргерам одни лишь тяготы и лишения. Им, несомненно, было легче работать и торговать в мирных условиях, чем во время боевых действий. Правда, бюргерство поддерживало походные войска не только из страха перед их вооруженной силой, но и опасаясь возврата к старым порядкам, возвращения власти и могущества патрициев и церковной иерархии, поскольку это означало бы, что им придется вернуть захваченное имущество. Но, сохраняя союз с походными войсками, горожане в то же время страстно стремились к миру и были готовы принять любые предложения со стороны врага. Их лозунгом был мир, заключенный на основе обоюдных компромиссов, при том непременном условии, чтобы были признаны происшедшие перемены. Поэтому уже Гинек из Кольштейна во время своего реакционного заговора в сентябре 1427 года, как мы видели, выдвинул лозунг «Святой мир». Поэтому же письма из Базеля, в которых говорится о прелестях мира, покоя и тишины, встречали такое сочувствие у богатого пражского бюргерства. Подобные лозунги звучали крайне соблазнительно для ушей разбогатевших бюргеров. Если уже в самом начале движения они склонны были отойти от него, то теперь, накануне Липан, их переход в лагерь реакции стал свершившимся фактом. Снова появилась возможность создания панского объединения, снова перед бюргерством был открыт путь к предательству.
Читать дальше