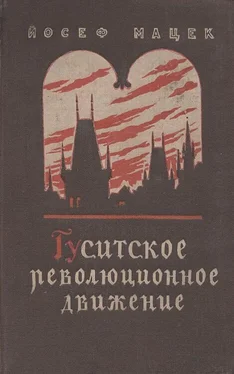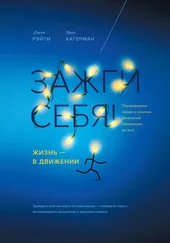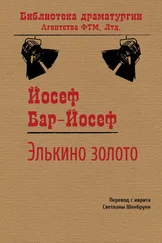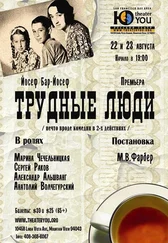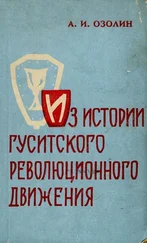О жизни Яна Жижки до 1419 года до нас дошли только отрывочные сведения. Нам известно, что он происходил из среды низшего дворянства, владел довольно значительным участком земли в Троцнове, но вскоре принужден был покинуть наследственную усадьбу — быть может, под давлением соседей, панов Рожемберков. Имя Жижки — если это только действительно наш Жижка — мы встречаем затем в «Книге казней панов из Рожемберка». Жижка возглавил небольшие отряды, состоявшие из обедневших рыцарей, людей, поставленных вне закона, вынужденных жить в дремучих лесах и в постоянной борьбе защищать свои права и самую жизнь.
Однако участие в этой борьбе не послужило препятствием Жижке в его дальнейшем продвижении: король милостиво простил ему разбойничьи набеги и, более того, принял к себе на службу. Военный опыт бывшего троцновского помещика накапливался не только в ходе малой войны против южночешских панов, но и в ходе длительной борьбы польской армии с Тевтонским орденом. Очень многие недворяне и обедневшие шляхтичи в то время поступали на службу к польскому королю и принимали участие в борьбе против немецкого ордена в Восточной Пруссии, в частности в славной победе над Орденом в битве при Грюнвальде (1410 год). Нам неизвестно, участвовал ли Жижка в этой битве, но мы знаем, что он действительно был на службе польского короля и приобрел там новый военный опыт. Что же касается пребывания Жижки в Праге при дворе Вацлава IV, то оно способствовало его развитию в другом направлении — в нем крепла решимость начать борьбу за исправление недостатков феодального общественного строя. Он мог слышать ту острую критику церкви и всех общественных злоупотреблений, которая раздавалась с пражских кафедр. Особенно сильное воздействие должна была оказать на Жижку проповедь Гуса в Вифлееме, заставившая, вероятно, его задуматься не только над несправедливостью тогдашнего общественного строя, но и над тем, как улучшить этот строй.
Во время первых народных выступлений в 1419–1420 годах мы встречаем Жижку на улицах Праги. Тем не менее глубоко ошибается Пекарж, возлагая на Жижку ответственность за уничтожение и разрушение домов, церквей и монастырей, преувеличивая участие Жижки в борьбе на пражских улицах. Пекарж стремится доказать, что Жижка был всего лишь пламенным религиозным мечтателем, которому чужда была какая-либо политическая линия. Против Пекаржа лучше, чем что-либо другое, свидетельствует сама деятельность Жижки. Мы уже говорили, что Микулаш из Гуси не собирался вообще вступать в переговоры с пражанами и решительно отвергал польскую кандидатуру; Жижка, напротив, стремился путем переговоров устранить противоречия между пражским бюргерством и таборитами; по его мнению, власть избранного короля должна была обеспечить единство революционного движения. В прямом соответствии с общей позицией Жижки стоит истребление им пикартов в Таборе, которое является новым свидетельством того, что Жижка был идеологом именно бюргерской оппозиции; в первые месяцы революционного движения он, быть может, был также подхвачен быстро поднявшейся волной революционного движения бедноты (под руководством Желивского в Праге и Коранды в Пльзене), вскоре, однако, по отношению к бедноте он занял ту единственную классовую позицию, которую только и мог занять, — позицию, характерную для низшей шляхты и бюргерства. Не колеблясь ни минуты, с оружием в руках выступил он против идеологов бедноты в Таборе, которые стремились до основания разрушить феодальный строй и установить апостольское равенство всех людей.
Ян Жижка, а вместе с ним и остальные рыцари и бюргеры не могли сочувствовать идеям обобществления имущества и хилиазму. Рыцари, даже если они и разорились, не переставали быть феодалами (поскольку они продолжали владеть крепостными) и, отнюдь не посягая на весь феодальный строй, стремились лишь к тому, чтобы улучшить свое положение. Бюргеры, несмотря на то, что они являлись элементом, чуждым феодальному обществу [144] Средневековое бюргерство вряд ли можно рассматривать как нечто чуждое феодальному обществу; наоборот, средневековый город был городом феодальным как по характеру производства (цеховое ремесло), так и по политическому устройству (город как самостоятельный политический организм). — Прим. ред.
, при тогдашнем развитии производительных сил также не хотели, да и не могли, уничтожить феодальный строй.
Ремесло не выходило за рамки цеховых ограничений, за пределы узкого местного рынка и еще не достигло той ступени, когда оно нуждается в полном устранении феодализма. Для дальнейшего развития ремесла и торговли необходимо было лишь ослабить путы феодальных привилегий. Ремесло обслуживало главным образом окружающие деревни. Для ремесленного производства была уже характерна специализация, но разделение труда фактически еще нигде не было осуществлено; капитал, как уже указывалось, обычно не вкладывали в ремесленное производство, на него покупали землю или обращали его в сокровища. Все это обусловливало слабость и нерешительность бюргерской оппозиции. Жижка, представитель этой оппозиции, положил в основу своей политической программы принципы, нашедшие выражение в четырех статьях, требовавших исправления как церкви, так и всего общества. Но он не хотел отступить ни от одного пункта «четырех божьих статей», он вел за них борьбу против любых врагов. Он бился за них против Сигизмунда, церковной иерархии, панства и патрициата, он бился за них также и против бедноты, которая считала программу четырех статей всего лишь введением к более широкой программе — полного упразднения феодализма.
Читать дальше