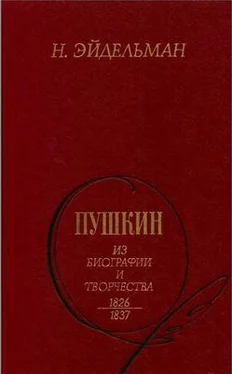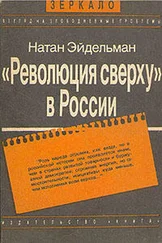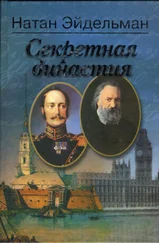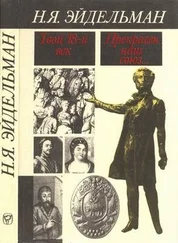Приведя этот длинный текст, Тургенев поясняет: «Ни один стих Пушкина так не полюбился мне, как эта проза, и я готов многое простить и перу его, и даже его сердцу за эту прекрасную исповедь. Это признание гения. Не все имеют право так поступать и уступать» [437].
В начале июня Пушкин — Дельвигу: «Видел ли ты Николая Михайловича? идёт ли вперёд История? Где он остановится? Не на избрании ли Романовых? Неблагодарные! Шесть Пушкиных подписали избирательную грамоту! Да двое руку приложили за неумением писать! А я, грамотный потомок их, что я? где я…» ( XIII, 182).
Время шло… 1825-й вступил во вторую половину, приближаясь к роковому 14 декабря.
5 августа Плетнёв писал Пушкину: «Напрасно ты мизантропствуешь. Карамзин и все твои прежние друзья остались к тебе расположены по-прежнему. Ты только люби Поэзию, а тебя все не перестанут и любить, и почитать. Ты, верно, живее каждого чувствуешь: чего здесь и желать можно кроме славы, спокойствия самодовольной души и добрых друзей?» ( XIII, 202—203).
17 августа Пушкин — Жуковскому: «Трагедия моя идёт, и думаю к зиме её кончить; вследствие чего читаю только Карамзина да летописи. Что за чудо эти 2 последние тома Карамзина! какая жизнь! c’est palpitant comme la gazette d’hier [438], писал я Раевскому. Одна просьба, моя прелесть: нельзя ли мне доставить или жизнь Железного Колпака , или житие какого-нибудь юродивого. Я напрасно искал Василия Блаженного в Четьих-Минеях — а мне бы очень нужно» ( XIII, 211—212 ).
По-прежнему, хваля Карамзина, по сути к нему обращаясь за справкою о «юродивом» и «железном колпаке», Пушкин пишет через Жуковского (или Тургенева, Вяземского), но опять — не прямо: отношения так сложились; Карамзин столь болен и занят, что его стараются не тревожить.
Однако, в связи с вопросом Пушкина, вдруг начинается очень любопытный заочный диалог.
6 сентября историограф отвечает Пушкину, так же не прямо, а через П. А. Вяземского: «Карамзин очень доволен твоими трагическими занятиями и хотел отыскать для тебя Железный Колпак. Он говорит, что ты должен иметь в виду в начертании характера Бориса дикую смесь: набожности и преступных страстей. Он беспрестанно перечитывал Библию и искал в ней оправдания себе. Эта противоположность драматическая! Я советовал бы тебе прислать план трагедии Жуковскому для показания Карамзину, который мог бы тебе полезен быть в историческом отношении <���…> Карамзин говорит, что ты в колпаке немного найдёшь пищи, то есть, вшей. Все юродивые похожи!» ( XIII, 224).
Крайне любопытная беседа через «друзей-переводчиков»!
Карамзин даёт советы, которые Пушкин отчасти уже воплотил в характере Бориса (стремление к оправданию своего права на злодейство), но отчасти — учитывать не станет: историк говорит как историк, Пушкин же не желает «дикой смеси» и делает Бориса человеком куда более приближенным к современному мироощущению, нежели в «Истории…» Карамзина («злободневен, как вчерашняя газета»); набожность царя также представлена в драме весьма умеренно… Характерно и другое, насмешливое, карамзинское замечание насчёт «колпака» и «вшей». Упрощённо говоря, историограф недоумевает, зачем Пушкину юродивый и стоит ли углубляться в столь низкую материю. По одной этой реплике хорошо видна разница подхода: Пушкин старается проникнуть в самые глубины народной жизни, «народного мнения», которое своеобразно выражено в восклицаниях юродивого; Карамзин же хотя много и подробно пишет о народе в X и XI томах своей «Истории…», но не видит необходимости опускаться столь «низко» (а на самом деле столь глубоко!).
Соглашаясь и не соглашаясь, Пушкин охотно поддерживает заочную дискуссию о Борисе: в середине сентября пишет довольно хитрое письмо Вяземскому (отчасти для сообщения Карамзину). Поэт благодарит историографа «за Железный колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать» ( XIII, 226).
Довольно прозрачный намёк на красный, революционный «фригийский» колпак, от которого молва не избавляет Пушкина. Затем следует благодарность Карамзину за его замечания о характере Бориса, причём Пушкин (чтобы сделать приятное историку) явно преувеличивает свою готовность воспользоваться его советами,— в то время как «Борис Годунов», в сущности, уж готов. «Я смотрел на его с политической точки, не замечая поэтической его стороны; я его засажу за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде и тому подобное. Ты хочешь плана ? возьми конец десятого и весь одиннадцатый том, вот тебе и план» ( XIII, 227) [439].
Читать дальше