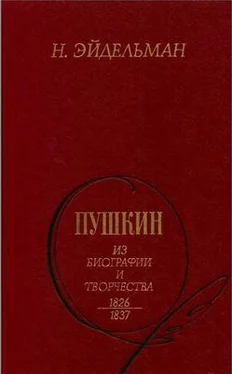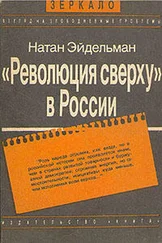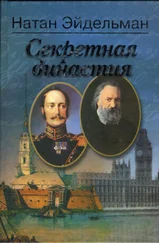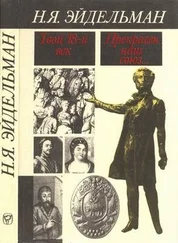Трудно, невозможно представить, чтобы Пушкин сразу после 14 декабря принялся иронизировать над «молодыми якобинцами» (см. XII, 306); чтобы начал полемику с арестованным, приговорённым к смерти и «помилованным» каторгой Никитой Муравьёвым («Никита Муравьёв, молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие или введение: предисловие!», XII, 306); чтобы декабриста-генерала Михаила Орлова, арестованного и чудом отделавшегося ссылкой в деревню, Пушкин (пусть и в тиши михайловского кабинета) теперь упрекнул, и довольно ядовито: «Мих. Орлов в письме к Вяземскому пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян …» ( XII, 306).
Вдобавок заметим, что во фразе о Карамзине «государь, освободив его от цензуры…» не сказано «государь Александр Павлович» или «покойный государь», что было бы естественно, если бы «Записки» составлялись в 1826 году.
Мы привели доводы, вероятно, подразумевавшиеся И. Л. Фейнбергом, когда он говорил о датировке отрывка по его содержанию. Однако необходимо ещё объяснить, почему многие из отмеченных характерных признаков раннего (до 14 декабря) рождения текста сохранились в отрывке, подготовленном для первой печатной его публикации (в «Северных цветах на 1828 год»).
На этот вопрос ответим не сразу, но — приглядимся к последовательности главных событий в жизни интересующей нас рукописи. Материалов слишком мало для каких-нибудь новых открытий, но, как всегда, вполне достаточно для размышлений и гипотез [442].
В сентябре 1825 года Пушкин сообщал Катенину: «Пишу свои Mémoires, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую, черновую тетрадь» ( XIII, 225).
Сама идея писать мемуары (об этом уже говорилось выше) была связана с обострившимся чувством истории, чувством итога. Среди тех, кто в эту пору также был полон разнообразных предчувствий,— сам Карамзин. Достаточно прочесть его последние письма к нескольким близким людям, чтобы обнаружить там печальное, фаталистическое, профетическое начало: «Странные изменения в свете и душах! Но всё хорошо, как думаю, в почтовой скачке нашего бытия земного…» [443]
Карамзин ощущает приближение конца своей жизни, своего времени. Пушкин же торопится начать «групповой портрет» уходящей эпохи, где почётнейшее место отдаётся Карамзину…
Среди сохранившихся фрагментов пушкинских сожжённых мемуаров некоторые, вероятно, являются остатком «черновой тетради»; [444]другие же страницы — беловые…
Одна из немногих надёжных дат — 19 ноября 1824 года: этим днём помечены известные строки, уцелевшие на обрывке листа; [445]«Вышед из Лицея, я почти тотчас уехал в Псковскую деревню моей матери. Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч., но всё это нравилось мне недолго. Я любил и доныне люблю шум и толпу и согласен с Вольтером в том, что деревня est le premier…» [446]( XII, 304).
Запись, легко убедиться, относится к совершенно определённой главе пушкинской биографии: в июне 1817 года поэт выходит из Лицея, 8 июля получает паспорт на отъезд в Псковскую губернию; в конце августа возвращается в столицу (1 сентября в письме Вяземскому — «Я очень недавно приехал в Петербург») [447].
После строк о том, что деревня «нравилась недолго» и что молодой человек любит «шум и толпу», естественно, должны были идти следующие страницы или главы записок, где рассказывалось о возвращении Пушкина в Петербург и последних месяцах 1817 года. Этот раздел, однако, не сохранился. Нетрудно догадаться, отчего: именно там было особенно много опасных , горячих страниц, тех самых, которые пришлось сжечь, ибо — «могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв» [448].
Летопись жизни и творчества Пушкина за осень и зиму 1817 года может явиться сегодня своеобразным оглавлением, «аннотацией» исчезнувших глав: бурная театральная и литературная жизнь Петербурга; левые, вольнодумные, декабристские идеи; «Арзамас», заседания которого Пушкин может теперь посещать свободно. Николай Тургенев 6 сентября 1817 года призывал к занятиям политическим. Вообще, осенью 1817 года общение Пушкина со старшим десятью годами Н. И. Тургеневым самое тесное. В то же время более умеренный брат декабриста, Александр Тургенев, ежедневно бранит Пушкина за его «леность и нерадение о собственном образовании, к чему присоединились и вкус к площадному волокитству и вольнодумство, также площадное, 18 столетия» [449].
Читать дальше