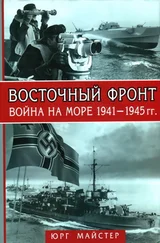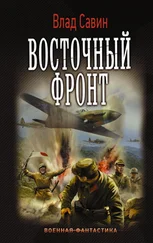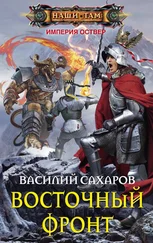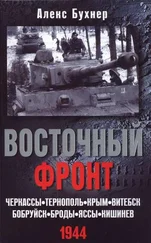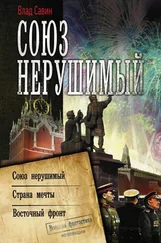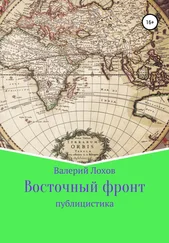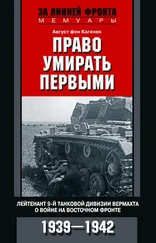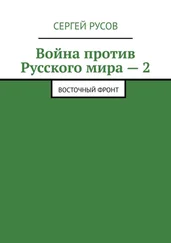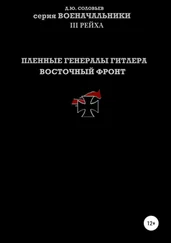Хейнрици приходится буквально выпрашивать разрешение на отступление: с середины декабря сам он не вправе принимать подобные решения, даже исходя из оперативной необходимости, — фюрер запретил отступать. К Новому году тональность дневника окончательно меняется: мрачные натуралистические картины солдатского быта («вымотанные, малочисленные, завшивленные и обессиленные люди» (с. 163 наст. Изд.), «с гниющими ранами по всему телу из–за постоянной чесотки […] в рваной форме, покрытые грязью и паразитами» (с. 155 наст, изд.)) чередуются с критикой решений вышестоящего командования и благодарностями Всевышнему («Вчера Он нам помог в последний момент, когда не было уже иного спасения. Я могу лишь вверить всё Ему» (с. 165 наст. изд.)).
В то же время пропаганда рассказывала о том, насколько прекрасно развивается наступление: падение советской столицы совсем близко, беспощадный меч германской армии занесен и вот–вот опустится на «гидру большевизма», снабжение работает как швейцарские часы, а победоносные армии получают всё необходимое. Собственной пропаганде в Берлине доверяли больше, чем донесениям с передовой. Зимой 1942 г. Хейнрици повысили и он принял 4–ю армию, но и с ней испытал своеобразное дежавю: проблемы с пополнением, снабжением, болезнями и тому подобным на армейском уровне были еще более вопиющи, чем на корпусном. Его армия пять месяцев сидела практически в окружении, будучи вынуждена оборонять узенькую (временами на одном из участков сужающуюся до полутора километров в ширину) полоску земли под Юхновом и с фронта, и с тыла. Ежедневные осложнения, именуемые Хейнрици кризисами, советские прорывы, попытки раз за разом залатать «иголкой без нитки» это рваное лоскутное одеяло двух фронтов вгоняли генерала в депрессию.
Меняется по ходу повествования и отношение автора к местному населению. Война перемешала все эпохи: среди обломков гибнущего Советского Союза и реликтов давно стертой с карты Российской империи новая немецкая власть пыталась укрепиться с помощью виселиц и расстрелов. Глазам оккупантов представали дотла выгоревшие, разбомбленные города, горькая крестьянская нищета, разоренные храмы, заброшенные разбитые склепы «бывших людей». Непроходимые чащи прятали разгромленные соединения, скрывали скитающихся оголодавших окруженцев. Одни местные жители выдавали партизан, другие сами становились партизанами и жестоко мстили первым. По бесконечным просторам полыхающей страны бродили толпы обездоленных беженцев.
Осенью 1941 г. грязные крестьяне, теснящиеся в грязных избах грязной деревни под названием Грязново, представляют для Хейнрици интерес скорее энтомологический. Он высокомерно лорнетирует их, почти как клопов, которых верный денщик извлекает из его брюк. По совету одного из своих переводчиков он даже перечитывает русскую классику — Николая Лескова и Льва Толстого — и находит в ней ответ на вопрос «Почему же в России всё настолько отсталое и заброшенное?» — потому что русские крестьяне добродушны и послушны, но ленивы и безынициативны. Коммуникация с местными сведена к минимуму: у них отбирают продукты, а в случае неповиновения вешают. На этом фоне идеи Розенберга о колонизации советской территории и превращении России в ресурсно–сырьевой придаток воспринимаются генералом одобрительно.
Проходит всего лишь год, и интенции в корне меняются. Нет, Хейнрици по–прежнему относится к русскому населению в целом неприязненно, но внезапно обретает интерес к психологическим нюансам, ранее игнорированным: желает склонить настроения местных жителей в свою сторону, радуется тому, что «общее отношение стало более дружелюбным и открытым» и даже соглашается с тем, что «лишь вместе с ними, а не против их воли следует завоевывать Россию. Кто владеет народом, тот владеет Россией». Впрочем, эти благие пожелания так и остались сухой теорией: до самого конца оккупации на занятых нацистами российских территориях не было введено никаких политических свобод.
Хейнрици шокировало падение нравов, глубина насилия и деформация человеческого поведения, которые он неоднократно сравнивал с Тридцатилетней войной. На его глазах едва надевшие униформу немецкие обыватели превращались в кровожадных и безжалостных ландскнехтов. Особенно показательна история Ганса Бейтельшпахера, одного из переводчиков генерала. Он родился в 1905 г. в немецком поселке под Одессой, учился сначала в Новороссийском университете, затем, перебравшись в Германию, в Штутгарте. Стал ученым–почвоведом, в 1933 г. защитил диссертацию, работал в Кёнигсбергском университете. Был призван в вермахт, служил в чине лейтенанта в разведотделе корпуса. Осенью 1941 г. организовал отряд по борьбе с партизанами, после чего «никогда не возвращался, не пристрелив или не повесив нескольких разбойников». Именно его Хейнрици просил не вешать партизан прямо под окном — натруженным очам генерала представал «не самый приятный вид с утра». Отметим, что после войны Бейтельшпахер не понес никакой ответственности за совершенные им преступления и продолжил успешную научную карьеру почвоведа в Брауншвейге.
Читать дальше
![Готхард Хейнрици Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици] обложка книги](/books/406940/gothard-hejnrici-zametki-o-vojne-na-unichtozhenie-v-cover.webp)