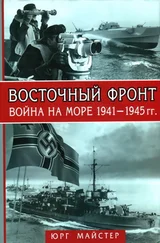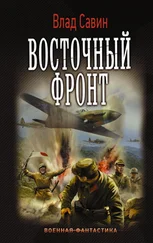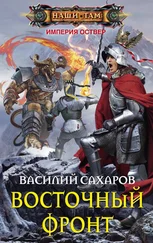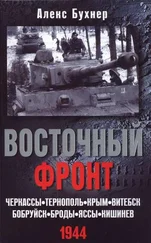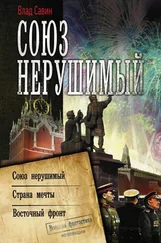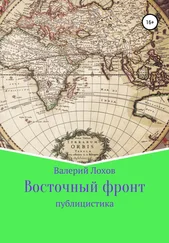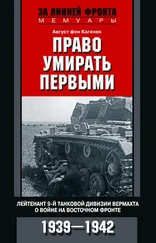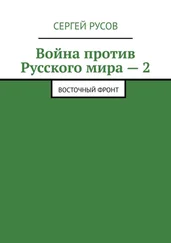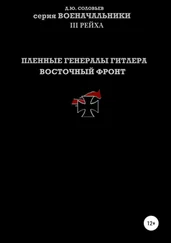Хейнрици предстает перед читателем пограничным, немного архаичным, даже по меркам 40–х гг., типажом. Религиозность для него была не просто частью культуры: истовое, горячее упование на помощь свыше сосуществовало с новой теологией, в которой роль божества играл политический лидер, — и верой, которую несли на своих штыках солдаты его армии.
С ходом войны одной из центральных тем дневников Хейнрици становится военная и психологическая оценка противника, как правило опирающаяся на конкретные боевые эпизоды и личные субъективные переживания. После войны некоторые немецкие генералы объясняли свои неудачи несчастливой комбинацией суровых погодных условий и неисчислимых резервов, снова и снова бросаемых в бой советским командованием вопреки немалым потерям. Хотя некоторые написанные по горячим следам записи Хейнрици служат печальной иллюстрацией этих потерь, в целом дневник показывает существенно более сложную картину, в которой большое количество жертв сочетается с крепостью и мужественностью самих войск.
У Хейнрици красноармейцы — беспощадный противник, на фоне которого все прочие выглядели блекло. По тексту разбросаны замечания относительно стойкости, яростности, злобности, хитрости, фанатизма советских русских [45] О боевой эффективности и мотивации красноармейцев см.: Reese R. R. Why Stalin's SoLdiers Fought: The Red Army's Military Effectiveness in World War II. Lawrence: University Press of Kansas, 2011.
. Изредка генерал даже хвалил красноармейцев за выучку и самопожертвование, признавал их закаленность. Летом 1941 г. Хейнрици искал ответ на вопрос «Почему они не сдаются?» и быстро различил за массами людей нечто большее, а именно механизм, что их воспитал, мобилизовал, одел, накормил, вооружил и направил, — большевистскую систему.
Да, к 1941 г. система, имевшая колоссальные человеческие и материальные ресурсы, воспитала в своих защитниках боевое упорство, привила им идеологическое горение и способность к неукоснительному повиновению воле руководства [46] О внутреннем мире и условиях войны для красноармейцев см.: Merridale С. Ivan's War: Life and Death in the Red Army, 1939–1945. New York: Henry Holt & Company, 2006.
. Однако сильные стороны системы были ее же недостатками: нередко советское командование не считалось с собственными жертвами, отдельные боевые действия, особенно в начале войны, отличались сумасбродством, а у личного состава даже в тактически несложной боевой обстановке порой отсутствовала инициатива.
Летом и осенью 1941 г. Хейнрици бросается в глаза и другое противоречие. С самых первых дней обобщенные красноармейцы сильны и бесстрашны: активно обороняются и контратакуют, в безнадежных ситуациях предпочитают смерть пленению. Но в то же время они сдаются поодиночке и группами, с оружием и без, дерутся за немецкие «пропуски в плен», а в отрыве от коллектива представляют собой испуганных, крайне пассивных и разобщенных индивидуумов [47] О советских дезертирах см.: Edele M. Stalin's Defectors: How Red Army Soldiers became Hitler's Collaborators, 1941–1945. Oxford: Oxford University Press, 2017.
. На допросах утверждают, что воевать не хотят, всё валят на комиссаров, которые за ставляют сражаться до последнего, стращая расстрелами в плену. Вышколенный пруссак так и не постиг сути этого «управляемого хаоса» и не смог понять, как эти явления могут сосуществовать.
Генерал тщетно надеялся на психологический перелом и последующий переворот в русском тылу. Хотя масштаб коллаборационизма в начале войны не позволяет говорить о «единении советских граждан перед лицом врага», новый общественный строй сдал экзамен, который ему устроили: несмотря на демонтаж старого общества, колхозы, голод, повальную бедноту, репрессии, уничтожение религии и частных свобод, несмотря на поражения РККА, перебежчиков, коллаборационистов, панику — в основном граждане СССР оказались готовы сражаться с оккупантами.
Разумеется, о своих солдатах Хейнрици пишет больше, чем о чужих. Если на первом этапе войны проблемы пополнения войск, снабжения, логистики и гигиены кажутся лишь пометками на полях рассказов о неудержимом наступлении на восток, то с октября 1941 г. тон заметно меняется. Личного состава становится всё меньше, но пополнение не поступает. Заканчивается бензин, а вместе с ним и подвоз продовольствия. Солдаты исправно кормят вшей, а вот самих солдат кормят не особо. Вермахт переходит на снабжение себя провиантом «с земли», фактически обдирая и обрекая на голодную смерть местных жителей. Тем временем дороги превращаются в непролазные топи, затем ударяют морозы и в лазаретах больных дизентерией сменяют обмороженные.
Читать дальше
![Готхард Хейнрици Заметки о войне на уничтожение [Восточный фронт 1941–1942 гг. в записях генерала Хейнрици] обложка книги](/books/406940/gothard-hejnrici-zametki-o-vojne-na-unichtozhenie-v-cover.webp)