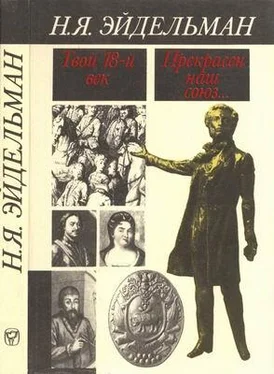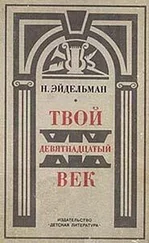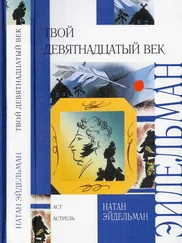Свобода!
Наступают дни прощания. Дельвигу, собрату по музе и судьбе,— первое прости. Разумеется, потом, после выхода из Лицея, многие будут видеться, переписываться; поэтому прощальное слово относится более всего к общему прошлому. Впрочем, кто знает — что готовит судьба «рукой железной»?
Один поэт желает поэтических радостей другому и делает вид, будто сам сможет от них избавиться…
В бездействии счастливом
Забуду милых муз, мучительнщ моих;
Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,
Внимая звуку струн твоих.
Второе прощание — с князем, Франтом:
Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой…
Пушкин и Горчаков — ещё близкие, родные, но поэт предчувствует то, о чём позже скажет: «Вступая в жизнь, мы рано разошлись…» Впрочем, Пушкин уже предвидит и блеск, восхождение будущего дипломата, любимца дев:
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит — и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай…
О скольких слёз, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем — пленяйся и пленяй…
Разговор с другом, конечно, повод для печали о себе. О чём печалиться? И можно ли верить грустным строкам — «Твоя заря — заря весны прекрасной, Моя ж, мой друг, осенняя заря…»?
Можно и нужно верить. Нет никакого противоречия между грустью и радостью, буйным весельем. Всякая перемена, поэт знает, и прекрасна («Всё благо…») и печальна («что было — не вернётся…»).
У Пушкина обострённое, усиленное гениальностью ощущение проходящего времени: ему порой кажется, что истинно счастлив тот, кто не думает, «не знает счастья» — как они сами в прежние годы.
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.
Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть?
Француз, «нумер четырнадцать», конечно, знает свой дар и, может быть, немного боится его; к тому же этот дар делает будущее Александра Пушкина самым неясным: что же для мира, что для читателя означает Гений?
Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье.
Нет, праведно богов определенье!
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
И в жизни сей мне будет в утешенье
Мой скромный дар и счастие друзей.
Прощаются вчерашние соперники… В альбоме Олосеньки, Алексея Демьяновича Илличевского, Пушкин опять пускается в игру вперемежку с серьёзным:
Мой друг! неславный я поэт,
Хоть христианин православный.
Душа бессмертна, слова нет,
Моим стихам удел неравный —
И песни музы своенравной,
Забавы резвых, юных лет,
Погибнут смертию забавной,
И нас не тронет здешний свет!
Ах! ведает мой добрый гений,
Что предпочёл бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие своих творений.
Не властны мы в судьбе своей,
По крайней мере, нет сомненья,
Сей плод небрежный вдохновенья,
Без подписи, в твоих руках
На скромных дружества листках
Уйдёт от общего забвенья…
Но пусть напрасен будет труд,
Твоею дружбой оживленный —
Мои стихи пускай умрут —
Глас сердца, чувства неизменны
Наверно их переживут!
Через девятнадцать лет, уже без лицейской улыбки, поэт скажет: «Нет, весь я не умру…»
Строки, написанные рукою Пушкина — вместе с альбомом Илличевского,— до сей поры не найдены… Но друзья вовремя смекнули: Матюшкин, Яковлев, Корф списали текст для себя, и стихи не пропадут никогда!
Разумеется, особое событие — разлука с Кюхлей:
Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!
Самое же задушевное посвящение, без гадательных рассуждений о судьбе, стихах — Большому Жанно:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу