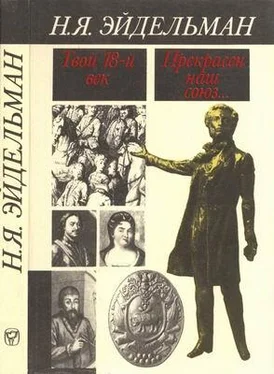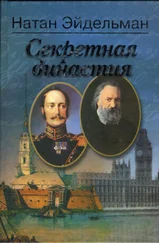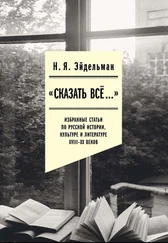3) занести фамилии наши, с прописанием виновности и приговора в чёрную книгу, которая должна иметь влияние при выпуске».
Первый пункт приговора был выполнен буквально.
Второй смягчался по усмотрению начальства: последних по истечении некоторого времени постепенно продвигали опять вверх…
«По этому поводу,— помнит Пущин,— были тут же сложены стишки, не слишком складные, но весёлые и красноречивые»:
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе;
Как лексикон,
Растолстеет он.
Не тако с вами —
С первыми скамьями,
Но яко скелет
Будете худеть.
В числа, места («первый, последний»), любили играть — всю жизнь подписывали письма друг другу лицейскими номерами. Начальство же любило выстраивать их сообразно успехам: номер первый (из 30 возможных) — Горчаков или Вольховский. Пушкин шёл восемнадцатым, девятнадцатым, потом и ниже.
Но эту табель рангов лицейская братия (или, как сами себя честили, «скотобратия») отвергает решительно и демократически:
Этот список сущи бредни.
Кто тут первый, кто последний,
Все нули, все нули,
Ай люли, люли, люли…
К счастью для провинившихся, последний их директор Энгельгардт убрал порочащую запись из «чёрной книги» — и от всей истории осталось лишь очередное послание № 14-го к № 13-му:
Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине?
Как, укрывшись молчаливо
В нашем тёмном уголке,
С Вакхом нежились лениво,
Школьной стражи вдалеке?
Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?
Закипев, о сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали…
И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.
Убегаем торопливо —
Вмиг исчез минутный страх!
Щёк румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах,
Хохот чистого веселья,
Неподвижный, тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор.
О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год в часы беспечны
Поминать его вином.
Иван Иванович Пущин писал свои мемуары на склоне дней, 40 лет спустя, однако по многим проверкам видно, как хорошо и свежо он всё запомнил. Пир, вино, Вакх — об этом много, часто упоминалось в лицейских стихах. Пиры запретные («гогель-могель») и пиры, где участвуют некоторые любезные учителя, например Александр Иванович Галич:
О Галич, верный друг бокала
И жирных утренних пиров,
Тебя зову, мудрец ленивый,
В приют поэзии счастливой,
Под отдалённый неги кров.
Давно в моём уединеньи,
В кругу бутылок и друзей,
Не зрели кружки мы твоей,
Подруги долгих наслаждений,
Острот и хохота гостей…
Смешно и скучно в весёлых лицейских попойках видеть нечто вроде «общественного протеста», освобождения; но глупо было бы не видеть, что чаша, заздравный кубок, легко и небрежно переходит в вольность, даже символизирует её.
Вскоре после окончания Лицея многие воскликнут вместе с Пушкиным:
Пусть остылой жизни чашу
Тянет медленно другой;
Мы ж утратим юность нашу
Вместе с жизнью дорогой.
Ещё через несколько лет:
Подымем бокалы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
В Лицее же вскоре после только что описанной истории мы наблюдаем проштрафившихся «мужей с разных концов обеденного стола», когда они собираются возле заболевшего Пушкина.
Вот они, «пирующие студенты»: им 15—16 лет, весёлые, свободные, не видимые в этот час начальством!
Мы позволим себе «на полях» этого стихотворения дать несколько кратких объяснений:
Друзья, досужный час настал;
Всё тихо, всё в покое;
Скорее скатерть и бокал!
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле.
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол холодных мудрецов,
Мы полем овладеем;
Под стол учёных дураков!
Без них мы пить умеем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу