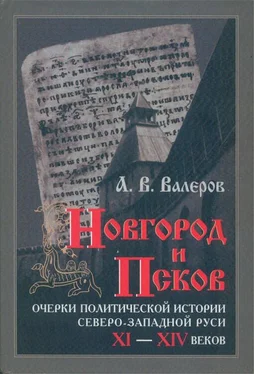Комментируя данный фрагмент хроники, И.Э. Клейпенберг и И.П. Шаскольский обосновали точку зрения, по которой Герпольта следует отождествить с Ярославом Владимировичем, завладевшим с помощью ливонцев Изборском. По всей видимости, Ярослав-Герпольт «в ходе начавшихся переговоров использовал свои личные связи с псковским боярством и помог немецкому командованию уговорить (а может быть, сыграл в переговорах решающую роль, т. е. уговорил) значительную часть псковских бояр сдать город немцам» [667]. Данное предположение представляется вполне вероятным, тем более если мы вспомним, что Ярослав Владимирович был сыном псковского князя Владимира Мстиславича и, возможно, сам княжил какое-то время в Пскове (хотя А.Н. Насонов на основе анализа летописных известий считал, что в Пскове в это время не было князя) [668].
Учитывая свидетельства «Рифмованной хроники», можно полагать, что именно Ярослав сумел склонить псковичей открыть ворота города немцам, а Твердила Иванкович, скорее всего как влиятельный псковский боярин, представлял во время переговоров Псков. Решение сдать город было принято не одним Твердилой или кучкой изменников, а всеми псковичами, возможно, на вечевом собрании. Не случайно новгородский летописец говорит, что «перевет» с немцами «держали» псковичи, а не конкретные представители псковской общины [669].
Если из содержания летописных статей за 1240 г. факт «перевета» псковичей выявляется довольно отчетливо, то намного труднее дело обстоит с выяснением причин, которые заставили большую часть общины Пскова пойти на соглашение с немцами. Специфика летописного материала такова, что в данном случае придется ограничиться лишь предположениями.
Не исключено, что незадолго до событий 1240 г. между Псковом и Новгородом возник очередной, достаточно серьезный конфликт, вызванный тем, что псковичи оставались верны союзному договору с Ригой. Отчасти это можно рассматривать как демонстрацию Псковом своего неприязненного отношения к Новгороду. Псковско-рижский союз, заключенный еще в 1228 г. в условиях напряженных взаимоотношений Пскова и Новгорода, оставался действенным по крайней мере до конца 30-х гг. XIII в., так как источники ничего не говорят о его разрыве. Наоборот, становится понятным, почему в 1237 г., когда немцы, рижане и чудь «идоша на безбожную Литву», «Пльсковичи от себе послаша помощь мужь 200» [670]. Содержание приведенного отрывка летописи ясно свидетельствует о дружественных отношениях между Псковской землей и Рижским архиепископством. В связи с этим не представляется возможным согласиться с мнением В.А. Кучкина, который, связывая упоминание в Житии Александра Невского о приезде к новгородскому князю «от Западныя страны» некоего Андреяша (исследователи в нем видят орденского вицемагистра Андреаса фон Фельвена [671]) с участием псковской дружины в походе 1237 г., полагает, что псковичи в тот момент составляли «единое целое» с новгородцами [672]. На наш взгляд, ситуация была диаметрально противоположной. Тем более что датировка посещения фон Фельвеном Новгорода, принятая В.А. Кучкиным, крайне гипотетична, на что указывает, в частности, Е.А. Назарова [673].
Учитывая данные обстоятельства, совсем небезосновательным будет выглядеть предположение о том, что во Пскове в 20–30-е гг. XIII в. произошла внешнеполитическая переориентация от союза с Новгородом к союзу с Ригой. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что в тексте Новгородской Первой летописи за 1237 г. проглядывает негативное отношение летописца к разрыву псковичей с новгородцами. Поход на Литву оказался неудачным, и автор летописи отметил: «тако, грехъ ради нашихъ, безбожными погаными побежени быша, придоша кождо десятый въ домы своя» [674]. В сочувствии к псковичам, которые допустили политическую ошибку, сблизившись с немцами, явно угадывается намек новгородца на отрицательные последствия отказа Пскова от союза с Новгородом.
Видимо, новгородский летописец оказался прав. Через несколько лет произошло новое военное столкновение Пскова с Литвой, о котором сохранились оригинальные местные записи в псковских летописях, сделанные вскоре после описываемых событий [675]. В сражении на Камне в 1239 г. псковичи участвовали одни, без союзников, и их отряд скорее всего был немногочисленным. Каменская трагедия псковичей фактически была предопределена. Здесь мы имеем еще одно свидетельство того, что разрыв союза с Новгородом оказался для Пскова в конечном итоге большой ошибкой, и его негативные последствия не могло компенсировать соглашение с Ригой. В условиях крайне нестабильной внешнеполитической ситуации, при постоянной угрозе потерять собственную независимость, псковичи предпочли в 1240 г. установление власти немцев возможному поглощению суверенной Псковской земли Новгородской волостью. Не случайно после появления немцев во Пскове войска псковичей и ливонцев совместно «воюя села новгородьская». По всей видимости, псковская рать в конце 1240 — начале 1241 г. принимала участие и в нападении на земли води, чуди, на Тесов, на новгородские территории по Луге и Сабле и в постройке крепости Копорье [676]. Полагаем, что для Пскова Новгород в это время являлся большим врагом, чем Ливонский орден, тем более если мы учтем, что олицетворением немецкого господства в Пскове являлись, по сообщению «Рифмованной хроники», лишь два фогта [677]; следовательно, другие нити государственного управления оставались в руках псковичей.
Читать дальше