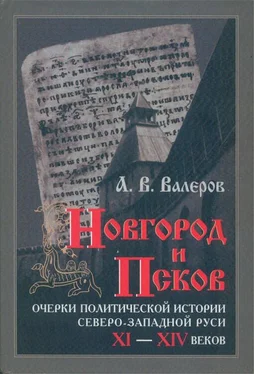Я.С. Лурье, отвергая существование Владимирского Полихрона, высказал мнение о том, что «своеобразные известия начальной части CI — HIV могли… восходить к другим использованным здесь общерусским сводам» [319], в частности непосредственно и к псковским летописям [320]. В другой своей работе Я.С. Лурье уточнил, что «именно в протографе двух последних летописей (Новгородской Четвертой и Софийской Первой. — А.В. ) соответствующие тексты были заимствованы из псковского летописания», причем из «псковских сводов» [321].
С выводами Я.С. Лурье соглашается В.И. Охотникова. Вместе с тем исследовательница отметила, что «псковские тексты в русских летописях еще не являлись предметом специального изучения» [322].
Таким образом, в реконструкции псковского свода 50-х гг. XIV в. и определении его источников важным моментом представляется выяснение тех исторических обстоятельств, при которых этот летописный памятник оказался использованным в период составления Новгородско-Софийского свода, где псковские заимствования встречаются до середины XIV в. Учитывая, что создание грандиозной Новгородско-Софийской компиляции относится ко времени около 1418 г., то привлечение в ее состав первого псковского свода — протографа всех трех псковских летописей — могло иметь место в промежутке между 1352 г. и 1418 г. Следовательно, именно в этом временном отрезке нужно искать факт тесных контактов Пскова с Москвой или митрополичьей кафедрой, когда псковский свод мог попасть в руки авторов-составителей Новгородско-Софийского свода. В связи с этим обращают на себя внимание две фигуры — митрополита Киприана и князя Константина Дмитриевича.
Под 1395 г. Новгородская Первая летопись сообщает, что «прииха в Новьгород митрополить Киприянъ с патриаршимъ послом» и «пребылъ весну всю в Новегороде» [323]. Псковские Первая и Третья добавляют к этому, что «псковичи к нему послове послали с поминкомъ; он же приять с честию, и благослови игуменовъ и поповъ и дияконовъ псковъских и весь Псковъ и окрестная грады их» [324]. Кроме того, «приехалъ от него во Псковъ на Петрово заговение, и быль во Пскове неделю едину, и привезе от митрополита патрияршу грамоту» полоцкий епископ Феодосий [325]. Совершенно очевидно, что между Киприаном и псковичами в 1395 г. дважды имели место тесные контакты. Возможно, именно тогда митрополит приобрел псковский летописный свод. Это не выглядит невероятным, так как широко известно об интересе Киприана к псковской истории и традициям. В его послании в Псков, датированном 12 мая 1395 г., прослеживается осведомленность о судной грамоте князя Александра и о приписках, сделанных к ней суздальским архиепископом Дионисием во время его визита в Псков в 1382 г. [326] Вообще, как отмечает Ю.Г. Алексеев, «на рубеже XIV и XV вв. Псков и Новгород были в центре внимания митрополичьей кафедры», «митрополиты Киприан и Фотий пристально следили за событиями церковной (следовательно, и общественно-политической) жизни вечевых городов-земель» [327]. Ввиду данного обстоятельства становится вполне возможным факт заинтересованности Киприана в получении каких-либо псковских литературных и правовых памятников (как это было в случае с грамотой Дионисия), в том числе — псковского летописного свода. Киприан известен как заказчик одного из ранних общерусских митрополичьих сводов — свода 1408 г. — Троицкой летописи [328]. Таким образом, псковский свод середины XIV в. мог быть востребован митрополитом и использован впоследствии при создании Новгородско-Софийской компиляции.
Путь, которым текст архетипа псковских летописей попал к составителям Новгородско-Софийского свода, мог быть и иным. Помимо митрополита Киприана тесные связи со Псковом имел князь Константин Дмитриевич, брат Василия I. В 1407 г. «ходиша пьсковици воиною в Немечкую землю с братом князя великаго Костянтином… и отъидоша во Пьсково, а князь Костянтинъ отъиха на Москву» [329]. В 1419–1421 гг., после ссоры с Василием, Константин находился в Новгороде и вполне мог бывать во Пскове. О пребывании князя Константина во Пскове в 1407 г. сообщают и псковские летописи. В них говорится, что «псковичи прияша его с честию» после изгнания неугодного Даниила Александровича [330]. Константин даже именуется титулом «великий князь». Согласно тем же псковским летописям, Константин был псковским князем в 1412–1414 гг. [331] Из текста Псковской Судной грамоты известно, что «ся грамота выписана изъ великаго князя Александровы грамоты и из княжь Констянтиновы грамоты…» [332]. Причем, если основываться на содержании послания митрополита Фотия псковичам от 24 сентября 1416 г., грамот Константина было как минимум две [333]. Как явствует, Константин Дмитриевич не только находился некоторое время во Пскове в качестве местного князя, но и принимал активное участие в законотворчестве. Не исключено, что после очередного пребывания во Пскове и отъезда из города Константин перевез в Москву псковский летописный свод середины XIV в., материалы которого через несколько лет подверглись редакторской обработке при создании общерусского митрополичьего летописания.
Читать дальше