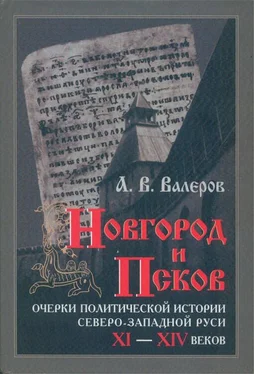Намного более сложную картину нарисовал Г.-Ю. Грабмюллер. В реконструированном им своде XIV в. автор выделяет два «пласта» — «повествовательный» и «летописный» («Erzahlschicht» и «Chronikschicht») [296]. По мнению Г.-Ю. Грабмюллера, первый из них охватывает середину — вторую половину XIII в., на каковом пространстве псковские летописи раскрывают историю Пскова в контексте событий на всем Северо-Западе Руси, а второй соотносится со статьями за первую половину XIV в., в которых нашла отражение внутренняя, в основном городская жизнь Псковской земли, так как именно среди этих записей (особенно за 1300–1310 и 1350 гг.) сохранились сообщения о церковном и светском строительстве, деятельности посадников и церковных иерархов, пожарах, природных бедствиях и эпидемиях [297]. Общий вывод немецкого исследователя заключается в том, что в псковском своде XIV в было соединено два составленных независимо друг от друга летописных источника: один — историко-политического характера, придававший основной идеологический фон, другой — псковская региональная хроника, обращавшая внимание, главным образом, на события городского и церковно-политического развития Пскова.
Гипотеза Г.-Ю. Грабмюллера представляется несколько искусственной, тем более что «послойный анализ» («Schichtenanalyse»), используемый им для реконструкции древнейших летописных сводов Пскова, был справедливо подвергнут критике как метод текстологического исследования Я.С. Лурье [298]. Полагаем, что более обоснованно искать не «пласты» текста, а остатки летописных записей, разнообразных по своему происхождению. И здесь мы сближаемся с В.С. Иконниковым. Действительно, в псковских летописях можно обнаружить извлечения из предполагаемых источников церковного и светского происхождения, которые велись параллельно друг другу. Духовное летописание, скорее всего, надо связывать с деятельностью причта Троицкого собора, а светское, по-видимому, составлялось под руководством псковских городских властей — веча, посадника, сотских и т. д. Таким образом, автор — составитель Псковского свода 1352 г. — соединил в одном литературном памятнике две самостоятельные псковские летописи, которые условно можно назвать «церковной» и «посадничьей». Одновременно, как мы уже отмечали, сводчик привлек при работе также памятник южнорусского происхождения. При этом он не ограничился одним составлением хронологической сети на основании южнорусских известий, но и включил в состав свода отдельные статьи из него.
В данной связи возникает закономерный вопрос о происхождении использованного в псковском летописании южнорусского источника. Очевидно, прав был В.И. Ставиский, определивший его как Киевскую летопись Владимира Рюриковича 1239 г., продолженную отдельными заметками до начала 50-х гг. XIII в. [299] Однако мы не можем ее соотнести с летописным сводом митрополитов Петра Акеровича и Кирилла, созданным около 1250–1251 гг., как это делает В.И. Ставиский (в чем он во многом повторил выводы В.Т. Пашуто, который попытался реконструировать митрополичий свод Петра). Свод Петра Акеровича, согласно убедительному мнению В.Т. Пашуто, был привлечен в новгородское летописание и, в частности, отразился в Новгородской Первой летописи старшего извода [300]. Между тем нечасто встречающиеся статьи псковских и новгородских летописей, повествующие о южнорусских событиях, не обнаруживают текстологических и фактических совпадений (ср., например, известие 1224 г. о Калкской битве). По всей видимости, южнорусский источник, использованный в Новгородской Первой летописи старшего извода, и южнорусский источник, следы которого обнаруживаются в Псковских Первой и Третьей, были двумя разными летописными памятниками.
Итак, рассматриваемый нами памятник псковского летописания, созданный в середине XIV в., представлял собой не просто ведшиеся погодно записи летописного характера, но цельное историческое сочинение компилятивного типа. При его составлении автором были привлечены как псковские, так и непсковские литературные произведения. Среди них мы можем выделить летописные материалы самого Пскова, псковскую Повесть о Довмонте, неизвестный в настоящее время хронограф-компендиум и южнорусский летописный свод середины XIII в.
Столь значимый по своему содержанию памятник мог возникнуть в Пскове лишь при соответствующих исторических обстоятельствах. Полагаем, что в достаточной мере они сложились уже к середине XIV в. К этому времени Псков являлся одним из крупнейших городов не только северо-западной части Руси, но и всех бывших древнерусских земель. Ему приходилось вести постоянную борьбу с мощными и агрессивными соседями — Литвой, Ливонским орденом; сложными были отношения с Новгородской республикой. Сложившийся к тому времени уровень самосознания псковичей требовал и такого подтверждения значимости их земли, как собственное областное летописание, обосновывавшее мысль о стародавней автономии. Непосредственным толчком к составлению первого летописного свода в Пскове явился очередной псковско-новгородский конфликт, случившийся в 1348 г. Видимо, разногласия были настолько серьезными, что новгородцы, судя по сведениям Новгородской Четвертой летописи, даже попытались поставить на место псковичей, напомнив им о том, что до некоторых пор Псков находился под влиянием Новгорода. Мы далеки от того, чтобы связывать с 1348 г. подписание знаменитого Болотовского договора, имевшего место ранее (об этом будет говориться в соответствующем разделе настоящей работы). Однако вспомнить о договоре, заключенном в Болотове, заставило именно столкновение между Новгородом и Псковом, произошедшее в 1348 г. Возможно, как раз эти события и подтолкнули псковскую городскую общину к созданию собственного летописного свода, который должен был показать древность Пскова и Псковской земли, их значимость среди русских волостей, раннее обретение Псковом независимости, роль псковичей в борьбе с внешними врагами. Для завершения работы по составлению свода потребовалось несколько лет, и он был закончен вскоре после 1352 г. или в 1352 г.
Читать дальше