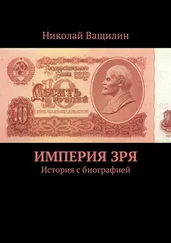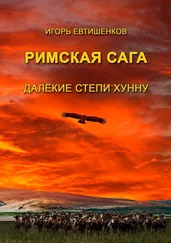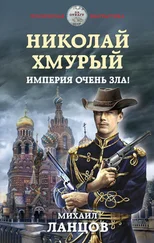Последней работой, посвященной данной теме, стала монография Е.И. Кычанова (1997), в которой рассматриваются процессы становления и эволюции форм «кочевой государственности» у номадов Евразии, начиная от скифов и хунну до маньчжуров. Данная работа обобщает более ранние идеи автора о «ранней государственности» у народов Центральной Азии [90] 1968; 1973/1995; 1986; 1990; 1992; и др.
. Большое внимание в книге уделено описанию хуннского общества [91] Кычанов 1997: 6–38, 248 ел.
. В целом, автор приходит к выводу, что становление государства у хунну (как и у других номадов) было результатом внутреннего развития. Предпосылкой политогенеза у номадов стала имущественная дифференциация и формирование в обществе скотоводов классового неравенства и эксплуатации.
В современной зарубежной науке продолжается активная традиция изучения политической истории хунну, их отношений с земледельческим миром, место хунну в этнической истории номадов Внутренней Азии, их соотношение с европейскими гуннами. Из множества работ заслуживает упоминания обобщающая монография О. Мэнчен-Хэлфена, посвященная европейским гуннам. Автор отмечает государственноподобный характер политической системы державы Аттилы (видя в ней известное подобие политии азиатских хунну), которая существовала только для набегов и вымогания дани и субсидий от Римской империи [92] Maenchen-Helfen 1973: 190–199, 270–274.
. Поскольку объединение гуннов держалось главным образом благодаря личным способностям ее основателя, то после его смерти оно распалось.
В некоторой степени история хунну была затронута в работах О. Латтимора. В своей главной монографии, посвященной культурной экологии и адаптации кочевников около китайской границы, которая не потеряла актуальности до сих пор, О. Латтимор затронул проблемы эволюции номадизма в более ранние периоды. На примере хунну он описал цикл истории пасторального государства. На первом этапе держава состоит только из кочевников. Затем она расширяется до смешанного скотоводческо-земледельческого общества с разными функциями и возможностями данных групп. На третьей стадии осевшие на юге гарнизоны номадного происхождения получают львиную долю добычи, поступающей из Китая, что приводит к конфликтам. В результате (четвертая фаза) происходит распад составного государства, и часть общества возвращается к номадизму [93] Lattimore 1940: 519–526.
.
В то же время западными учеными были выполнены важные исследования, посвященные собственно хунну: особенностям экономики, социальной и политической организации [94] Egami 1948; Pritsak 1954; Mori 1971; 1973; Barfield 1981; Yamada 1982; Hayashi 1984; etc.
. В этих и других работах также присутствует широкий спектр взглядов на характер развития хуннского общества. Л. Квантен, например, рассматривает Хуннскую державу как конфедерацию племен с гетерогенной политической структурой. Он выделяет следующие уровни иерархии: юрта (семья), клан, племя, конфедерация. Конфедерация держалась, по его мнению, на военной силе и харизматической природе высшей власти. Так как Хуннская держава была основана на чисто политических принципах, она была обречена на падение [95] Kwanten 1979: 8–26.
.
По мнению японского исследователя Нобуо Ямады, хуннское общество представляло собой могущественное племя с сильными этническими внутренними связями. Оно состояло как минимум из пяти-шести крупных кланов. Вся кооперация иноэтничных племен вокруг племени шаньюя имела исключительно военный характер. Вне военных действий шаньюй не имел никакой власти над другими племенами. Он был не более чем племенным вождем. В целом хуннское общество имело некоторые государственноподобные черты, но в совокупности представляло догосударственное племенное образование [96] Yamada 1982.
. Другие исследователи отмечают «промежуточный» характер хуннского общества, полагая, что при Модэ Хуннская военно-политическая конфедерация племенных групп все-таки трансформировалась в империю [97] Wen-Yen Tsao: 45.
. Наконец, третья группа исследователей, специально занимавшаяся изучением вопросов общественного и политического устройства хунну, рассматривает хуннское общество как государство с определенной административной системой, явственно напоминающей феодальную иерархическую лестницу [98] Mori 1950, 1950а; 1971; 1973; Pritsak 1954; и др.
, подчеркивает важнейшую роль внешнего фактора в образовании и последующем существовании Хуннской империи [99] Egami 1948.
.
Читать дальше
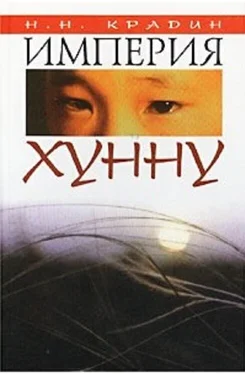


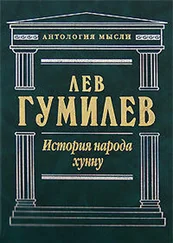

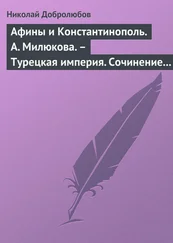
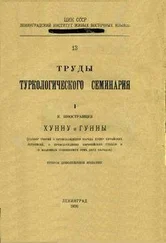

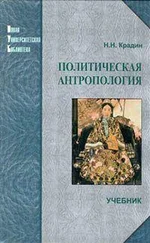
![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/337275/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov-thumb.webp)