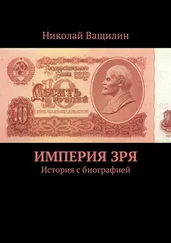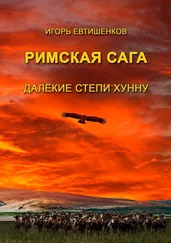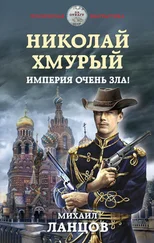Не совсем ясна роль демографического фактора в политогенезе номадов, поскольку рост поголовья скота происходил быстрее увеличения народонаселения, приводя при этом к стравливанию травостоя и к кризису экосистемы и общества. С другой стороны, численность кочевников была намного ниже численности земледельцев и горожан (например, население империи Юань составляло около 60 млн человек, тогда как монголов было всего около 1,5–2 млн человек [118] Щалай 1983: 55–57; Кульпин 1990: прил. III.
). Для номадов более характерна такая плотность населения, которая у земледельцев чаще встречается в доиерархических типах общества и в вождествах разной степени сложности [119] Коротаев 1991: табл. VII, XI.
. Но в то же самое время номады могли выделить в армию более ¾ взрослых мужчин [120] Семенюк 1958: 66.
, что увеличивало их военную силу и возможность подчинения своих оседлых соседей. Количество подобных несоответствий и парадоксов без труда можно увеличить.
В целом специфика процессов политической интеграции у кочевников-скотоводов была обусловлена особенностями экологии аридных зон Евразии. Кочевое скотоводство отличается значительной нестабильностью, сильно зависит от природно-климатических колебаний. В этом нет особой разницы между древними, средневековыми и более поздними номадами [121] Хазанов 1975: 149–150; Крадин 1992: 52–53.
. Не были в данном случае исключением и хунну. Суровые природные условия их существования наводили ужас и тоску на китайских военачальников, путешественников и дипломатов [122] Лидай 1958: 29, 32, 229, 255, 264; Бичурин 1950а: 55, 60, 94, 108; Материалы 1968: 44, 48; 1973: 40, 59, 67.
, а источники образно рисуют картину бедствий, регулярно приносимых климатическими неурядицами. Так, например, под 46 г. н. э. сообщается:
«В землях сюнну несколько лет была засуха и саранча; земля на несколько тысяч ли лежала голая, деревья и травы посохли, народ и скот голодали и болели, от чего умерли и пала большая часть (народа и скота)» [123] Лидай 1958: 678; Бичурин 1950а: 117; Материалы 1973: 70.
.
В целом летописи позволяют подсчитать (для тех лет, где есть соответствующие данные), что у хунну природные катаклизмы случались примерно раз в десять лет [124] Лидай 1958:48, 191–192,207, 219–221, 255, 678–679, 692; Бичурин 1950а: 71, 76–77, 82–83, 91–93, 107, 117, 119, 123, 127; Материалы 1968: 59; 1973: 22–23, 28–29, 36–37, 39, 59, 70, 72, 77, 81, 149.
. К сожалению, этот вывод нельзя корректно сопоставить с другими данными, поскольку в моем распоряжении имеются лишь две относительно представительные выборки: по казахам [125] Слудский 1953; Шахматов 1955.
и оленеводам Северной Евразии [126] Крупник 1989:128–140.
, у которых повторяемость массовых падежей скота вследствие джутов и иных причин составляла примерно один раз в 10–12 лет. Однако, кроме вышецитированных исследователей, о цикличном характере скотоводческой экономики писали и другие авторы [127] См., например: Косарев 1991: 47; Масанов 1995а: 100; Ситнянский 1988: 130–131.
. Есть мнение, что с джутом связан двенадцатиричный годичный цикл [128] Шахматов 1955.
, а год Зайца является годом джута [129] Масанов 1995а: 100; Ситнянский 1998: 131..
. Не исключено, что данная периодичность связана с 11-летним циклом колебания солнечной активности [130] Эйгенсон 1957; Чистяков 1996; и др.
.
В таком случае можно вывести обобщенную тенденцию, согласно которой у кочевников примерно каждые 10–12 лет из-за холодов, снежных бурь, засух и т. д. случался массовый падеж скота. Как правило, гибло до половины от поголовья всего стада. На восстановление требовалось примерно 10–13 лет. Поэтому можно предположить, что численность скота после заполнения экологической зоны теоретически должна была циклически колебаться вокруг определенной отметки. Она то увеличивалась в результате благоприятных условий, то сокращалась вследствие неблагоприятных факторов. Ни о каком постепенном увеличении прибавочного продукта и последовательном росте «производительных сил» у кочевников не могло быть и речи.
Увеличение производства при кочевом скотоводстве больше определяется естественными природными условиями обитания, нежели количеством вложенной человеческой энергии. Кочевое скотоводство представляет собой природный процесс, который специфически контролируется человеческой деятельностью, но основа этого процесса детерминирована экологическими и биологическими факторами. По этой причине экономика кочевых обществ может развиваться только за счет расширения используемых пастбищных ресурсов. А поскольку такие ресурсы небезграничны, то все пригодные для скотоводства земли были в течение определенного времени освоены. Сложился динамический баланс между размерами пастбищ, количеством стад и численностью номадов и их семей, кочевавших на данной территории. Сами кочевники эмпирически хорошо осознавали данную зависимость. «Без травы нет скота, без скота нет пищи», — гласит монгольская пословица [131] Цит. по: Khazanov 1984/1994: 71.
.
Читать дальше
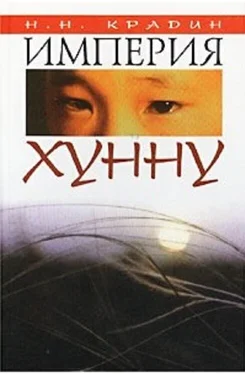


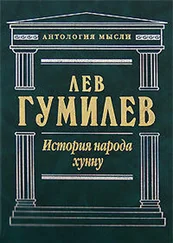

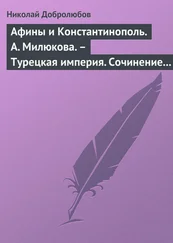
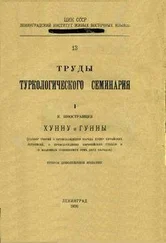

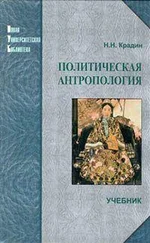
![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/337275/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov-thumb.webp)