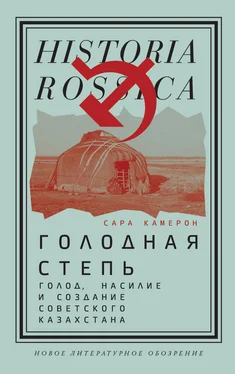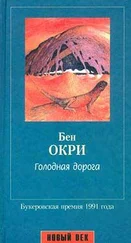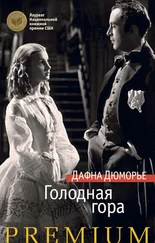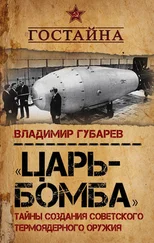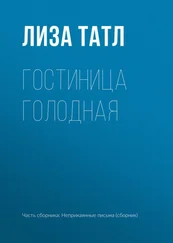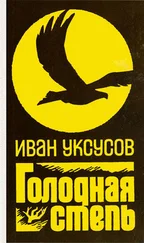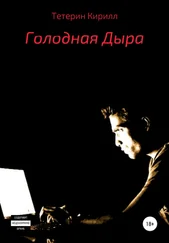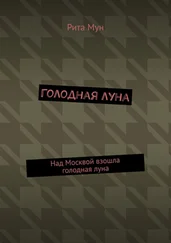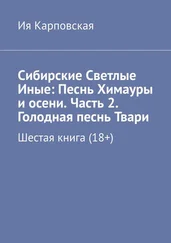Глава 6
КАЗАХСТАН И ПОЛИТИКА ГОЛОДА, 1931–1934 ГОДЫ
«Страдание не покидало наши головы; глаза наши были полны слез». Так Дуйсен Асанбаев, которому повезло выжить, вспоминал отчаяние, царившее на последнем этапе казахского голода, когда более миллиона казахов бежали, пытаясь найти убежище в других частях республики или за ее пределами 724 724 Асанбаев Д. Көш соңында көз бұлдырап // Қызылдар қырғыны. C. 23.
. Советская кампания по коллективизации, стартовавшая зимой 1929/1930 года, положила начало двум годам человеческих страданий во всех уголках Казахстана и привела к голоду и бегству – в том числе за границу, в Китай. Но к зиме 1930–1931 годов продовольственный кризис в республике стал настолько тяжким, что в бега подались практически все казахи. Решение оставить родной край далось казахам нелегко – они покидали пастбища предков и родовые владения. Сэден Малимулы (Сэден Мәлiмұлы), которому тогда было одиннадцать лет, вспоминал, как тяжко им с матерью было решиться покинуть свой аул и уйти на северо-восток республики, где на шахтах работали русские и где, как надеялись Сэден и его мать, легче было найти пропитание 725 725 Мәлiмұлы C. Амалдап жүрiп жан бақтық // Там же. С. 143–144.
. Казахские стада практически прекратили свое существование, и те, кто оставался на месте, не имели почти никаких шансов выжить: Зейтин Акишев, работавший учителем в Семипалатинске, вспоминал, как ходил по покинутым селениям на окраине города. Большинство лачуг были пусты, но в одной он нашел тесно переплетенные скелеты обнявшихся влюбленных 726 726 Акышев З. Бiлсiн мұны ұрпактар // Там же. С. 17.
.
Московское руководство предвидело, что натиск партии на казахскую кочевую жизнь приведет к голоду, однако не ожидало этой массовой миграции, крупнейшего переселения с XVIII века, со времен джунгарского нашествия. Беглецы были почти поголовно казахами – потому, что голод нанес свой главный удар по казахскому аулу, и потому, что казахи были скотоводами-кочевниками, не раз практиковавшими бегство в случае неблагоприятных природных или политических условий. Они наводнили города и промышленные объекты в Казахстане, соседние территории СССР – Западно-Сибирский и Средне-Волжский края в РСФСР, Узбекистан, Киргизию и Туркмению, и бежали за границу – в Китай и, в меньшей степени, в Иран и Афганистан. Таким образом, масштабы связанного с голодом бегства в Казахстане были куда бóльшими, чем в западных землях СССР. Всего за восемь месяцев, с июня 1931 по февраль 1932 года, количество зарегистрированных хозяйств в республике уменьшилось на 22,8%: в бега ушли более 300 тысяч хозяйств, более миллиона человек 727 727 АПРК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 5192. Л. 129–131 (Совет Народных Комиссаров, г. Москва, тт. [товарищам] Молотову, Сулимову, Гринько, Яковлевой. Докладная записка «О необходимых финансовых мероприятиях в связи с недородами, откочевками и переселениями хозяйств», 11 мая 1932 г.) // Трагедия казахского народа. С. 174.
. Один районный чиновник охарактеризовал 1931 год, когда началось это могучее движение населения, следующим образом: «Все население казакских аулов было, так сказать, на колесах» 728 728 ГАРФ. Ф. 6985. Оп. 1. Д. 3. Л. 30 (Стенограмма беседы тов. Киселёва с районными работниками КАССР, 18 июня 1934 г.).
. Массовый исход казахов из сельской местности облегчил участь некоторых из них, но большинство беглецов не нашли спасения. К 1934 году, когда закончился голод, в этом беспрецедентном катаклизме погибло около 1,5 миллиона человек, или четверть населения республики.
Московское руководство представило это движение страдающих людей как знак успеха и прогресса. Их называли не беженцами, а откочевщиками. С точки зрения Филиппа Голощёкина, руководителя и партийного секретаря республики, появление откочевщиков было частью необходимого перехода, когда казахи, избавляясь от отсталых кочевых практик, превращались в социалистическую нацию. Он заключал: «Старый аул сейчас разрушается, он в движении к оседанию, к покосу, к земледелию, переходу от худших земель к лучшим; и в движении к совхозам, к промышленности, к колхозному строительству». Есть, конечно, и те, кто тоскует по прошлому и не понимает социалистического будущего, – они «паникерствуют, предсказывают гибель» 729 729 Голощёкин Ф.И. Еще раз о путях развития животноводства и об оппортунистах на этом фронте // Народное хозяйство Казахстана. 1931. № 8–9. С. 28.
. Чиновники предупреждали, что этот этап перехода потребует особой бдительности, и партия атаковала кочевое скотоводство еще более яростно, взяв на вооружение фантастические планы по еще более быстрому оседанию казахов на землю. Как и в других регионах Советского Союза в годы коллективизации, московское руководство ответило на общественный катаклизм самыми безжалостными методами: чтобы помешать бегству голодающих, границы были закрыты, беженцы подвергались проверке и надзору, голодающих людей выселяли из городов как «нежелательные элементы», а некоторые районы республики «заносились на черную доску», что означало полный запрет торговли и поставок продовольствия 730 730 О повороте к полицейским репрессиям, нацеленном на то, чтобы справиться с растущими общественными беспорядками в результате коллективизации, см.: Hagenloh P. Stalin’s Police: Public Order and Mass Repression in the USSR, 1926–1941. Washington, D.C., 2009; Shearer D.R. Policing Stalin’s Socialism: Repression and Social Order in the Soviet Union. New Haven, 2009.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу