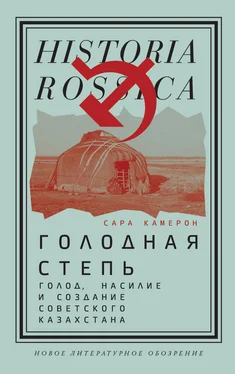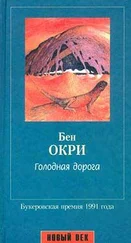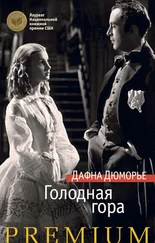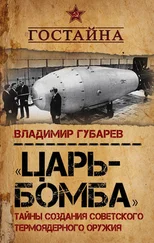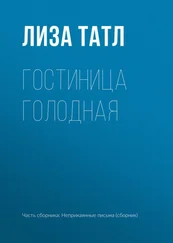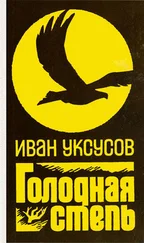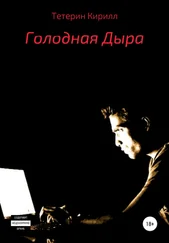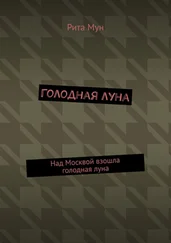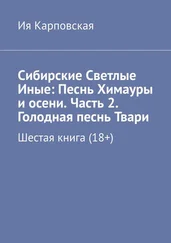Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции начал свое расследование 24 января 1931 года, когда с октябрьского расстрела прошло более трех месяцев 707 707 Там же. Л. 53–55 об.
. Представитель наркомата, подписывавшийся просто «Панчехин», получил от районных чиновников несколько противоречащих друг другу отчетов и заявил, что некоторые уполномоченные ОГПУ в Каратальском районе (в конце 1930 года, после изменения административных границ, он стал Талды-Курганским районом) сознательно мешали серьезному расследованию. Многие местные руководители, опрошенные Панчехиным, утверждали, что полноценного расследования не было из-за родовых и байских связей, поскольку партийные активисты стремились прикрыть людей из своего рода. Более того, как обнаружил Панчехин, тела убитых все еще лежали у границы и гнили в зимнем снегу; районные чиновники сочли предложение осмотреть трупы «бесцельным». Они считали, что вместо этого следует продолжать работу с беднотой. Каратальское дело обсуждалось и в особой докладной записке, отправленной в крайком и посвященной изменению границ районов, но и она не содержала каких-либо ясных выводов 708 708 Там же. Л. 57–58.
.
Некоторые чиновники Каратальского района, опрошенные в ходе расследования, проводимого Наркоматом Рабоче-крестьянской инспекции, утверждали, что семьи были вооружены и потому стрелять в них было «правильно». Но другие задавались вопросом, а имелось ли вообще у беглецов оружие, и считали, что нереалистичные требования по хлебозаготовкам, внедряемые чрезмерно агрессивными районными руководителями, обездолили множество семей разных национальностей и не оставили им другого выбора, кроме как бежать. Одни считали пострадавших вооруженной группой, другие – беженцами. Каратальское дело показывает, что советские руководители с готовностью закрывали глаза на насилие и, когда это было им удобно, игнорировали вполне реальные различия между мятежниками и беженцами. Однако спор о том, какое определение применять к жертвам расстрела в Каратальском районе, имел отношение не только к внутренним, но и к зарубежным делам советского государства.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕПАЛКА
Тем временем советские руководители были чрезвычайно встревожены событиями, происходившими в Китае. Между 1928 и 1933 годами, когда шло массовое переселение из Казахстана в Синьцзян, в Китае тоже царил беспорядок, и СССР периодически разрывал, а затем опять возобновлял дипломатические отношения со своим соседом 709 709 В 1928 году Сталин разорвал дипломатические отношения с Китаем, а в 1932 году возобновил их. Впрочем, на протяжении всего этого периода советские консульства в Синьцзяне не закрывались. См.: Haslam J. The Soviet Union and the Threat from the East, 1933–1941: Moscow, Tokyo, and the Prelude to the Pacific War. Pittsburgh, 1992; Славинский Д.Б. Советский Союз и Китай: история дипломатических отношений, 1917–1937 гг. М., 2003.
. В сентябре 1931 года императорская Япония оккупировала Маньчжурию, а в Синьцзяне продолжали править военные власти. Советское руководство с трудом контролировало свою сторону границы, но и с китайской стороны дело обстояло не лучше. В Москве боялись, что Китайское государство не способно контролировать собственные границы. Это означало, что остановить поток мигрантов, устремлявшихся в восточном направлении, можно только силой.
Свои контакты в Синьцзяне были и у других держав – у Англии и Японии. Опасаясь вмешательства англичан или японцев, советские руководители с ужасом думали о прозрачной границе длиной 1700 километров. В годы правления Шэн Шицая и Англия, и Япония стремились распространить свое влияние на Синьцзян, и регион прославился «убийствами, интригами, разведкой и контрразведкой» 710 710 Whiting A.S., Sheng Shih-ts’ai. Sinkiang: Pawn or Pivot? East Lansing, MI, 1958. Р. xii. Уайтинг приписывает эту характеристику Уэнделлу Уилки, который встретился с Шэн Шицаем во время посещения Синьцзяна в 1942 году. С 1941 по 1951 год советские, китайские и англо-американские стратеги вновь боролись за влияние в Синьцзяне. См.: Jacobs J. The Many Deaths of a Kazak Unaligned: Osman Batur, Chinese Decolonization and the Nationalization of a Nomad // American Historical Review. 2010. Vol. 115. No. 5. Р. 1291–1315.
. Тюркские повстанцы Синьцзяна искали военной поддержки со стороны Японии, и в 1933 году несколько японских генералов оказались замешаны в заговоре по установлению во Внутренней Азии (включавшей Синьцзян) марионеточного режима 711 711 Esenbel S. Japan’s Global Claim to Asia and the World of Islam: Transnational Nationalism and World Power, 1900–1945 // American Historical Review. 2004. Vol. 109. No. 4. P. 1161–1162.
. Немалое беспокойство вызывало и английское влияние. Уже в конце XIX века англичане размещали агентов в Кашгаре, используя Индию как базу для разведывательных действий. При советской власти ничего не изменилось: из Британской Индии по-прежнему было удобно следить за Синьцзяном и советской Средней Азией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу