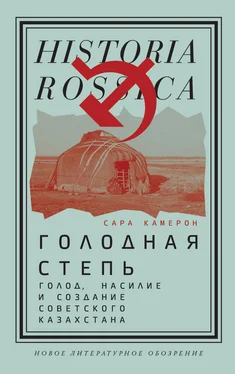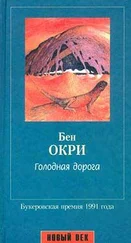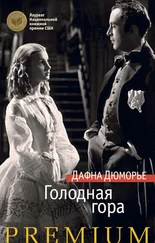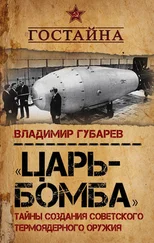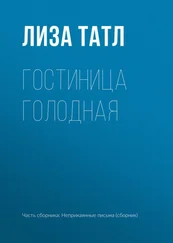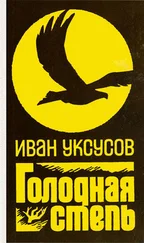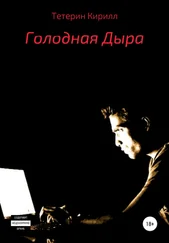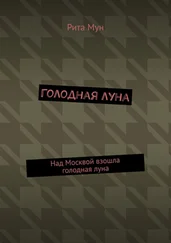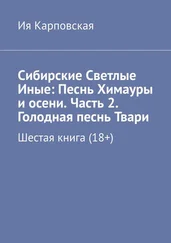Китайцы выступили с протестом, назвав советские рейды в Синьцзян нарушением «международного права» и «китайского суверенитета» и предупредив, что такие рейды несут угрозу для «дружеских отношений» соседних стран: «Если бы только наша пограничная охрана, услышав звуки выстрелов, открыла бы ответный огонь и возник бы большой пограничный конфликт, то ответственность за этот конфликт, ясно каждому, легла бы на советскую сторону» 719 719 Там же.
. Угрозу эти рейды несли и для коренного населения Синьцзяна, которое, как сообщали китайские власти, в ужасе бежало с пограничных территорий, бросив свои юрты и имущество. Советские же дипломаты, продолжали китайцы, упрямы – они требуют выдачи беженцев и скота, а сами не хотят вернуться в Синьцзян и забрать тела тех, кого они убили 720 720 Там же. Л. 6.
. Впрочем, синьцзянские власти не прекращали сотрудничества с Советским Союзом: в частности, весной 1930 года более 2 тысяч человек были выданы СССР 721 721 Там же. Л. 2. Талас Омарбеков, опираясь на материалы архивов госбезопасности в Казахстане, проделал значительную работу по китайско-советским программам экстрадиции из Синьцзяна в 1930-е годы. По его мнению, работа с беженцами была дополнительно затруднена из-за отказа советских властей принимать тех, кто считался баями, кулаками и иными представителями контрреволюции. См.: Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. С. 284. Начиная с 1946 года советская власть вновь прилагала усилия к возвращению беженцев, эмигрировавших в годы голода и проживавших в Синьцзяне: она раздавала советское гражданство и паспорта, при этом отказавшись от характерной для 1930-х годов тщательной проверки, кто возвращается (баи или бедняки). К концу 1956 года более 150 тысяч казахов вернулись в Казахстан в рамках этой программы. См.: Под грифом секретности. С. 10. См. также: Adams B.F. Reemigration from Western China to the USSR, 1954–1962 // Migration, Homeland, and Belonging in Eurasia / Eds. C.J. Buckley, B.A. Ruble. Washington, DC, 2008. Р. 183–203.
.
Начавшийся в Казахстане кризис перехлестнул через границу, вызвав пререкания между советскими и китайскими дипломатами по поводу нестабильности, связанной с проблемой беженцев. Этот конфликт быстро достиг высших эшелонов партии: 13 февраля 1931 года Сталин и Молотов послали телеграмму по поводу казахстанско-китайской границы Элиаве, распорядившись, чтобы тот «немедленно на месте» провел «неотложные мероприятия совместно с Голощёкиным» 722 722 РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 40. Л. 87 (Телеграмма Сталина и Молотова Элиаве, 13 февраля 1931 г.) // Stalin Digital Archive (https://www.stalindigitalarchive.com).
. Голощёкин и Элиава ответили 8 марта, предупредив, что «политическое положение приграничных с Китаем районов Казакстана чрезвычайно неблагополучное, несмотря на ряд мер, принимаемых крайкомом». Они предложили произвести чистку всех представителей СССР в Синьцзяне, в том числе торговой миссии и консульства. Весной 1931 года, вопреки всем нападениям на мигрантов в Казахстане и Синьцзяне, бегство, по словам Голощёкина и Элиавы, «снова усиливалось» 723 723 АПРК. Ф. 141. Оп. 1. Д. 4577. Л. 61–63.
.
Советскому руководству было исключительно трудно контролировать границу с Китаем. На всем протяжении этой длинной и прозрачной границы даже хорошо скоординированные попытки остановить бегство терпели неудачу из-за свойств степи, в которой беглецам так легко было скрыться. Однако чиновников доводили до отчаяния не только особенности ландшафта, но и чрезмерная подвижность главных государственных ресурсов, которые они так мечтали привязать к какому-нибудь конкретному месту, – людей и скота. Граница между Казахстаном и Синьцзяном разделяла родственников и семьи. Эти родственные и семейные связи стали рушиться, когда советская власть прибегла к силе, чтобы преградить путь через границу.
Пытаясь установить прочный контроль над китайско-казахстанской границей, советские чиновники сталкивались с проблемами, не имевшими аналога на западном пограничье СССР, – там не было в высшей степени мобильного населения, привыкшего к сезонным миграциям, а ресурс, лежавший там в основе экономики, не поддавался легкой транспортировке. Проблемы, связанные с географией и образом жизни, стали еще сложнее из-за начала чудовищного голода, в пропорциональном плане худшего из бедствий, связанных с коллективизацией в Советском Союзе. Тысячи людей бросились в Синьцзян – кто в поисках еды, а кто для взаимодействия с повстанцами.
Вместо того чтобы депортировать проблемные группы населения, как это было сделано на западном пограничье, советское руководство прибегло к насилию, убив несколько тысяч людей, пытавшихся перейти границу. Трудно сказать, исходил ли соответствующий приказ из Москвы, но центральное руководство молчаливо одобрило эти убийства. Насилие, хаос и вооруженные рейды вдоль границы продолжались, несмотря на вред, который они несли советско-китайским отношениям. Одной из причин происходившего был навязчивый страх многих советских чиновников перед слабостью Китайского государства и масштабами иностранного, в первую очередь японского и английского, влияния в Китае. Кроме того, советские чиновники стремились покончить с народными восстаниями: в годы голода в Казахстане разгорелись восстания, оказавшиеся одними из самых масштабных в истории СССР. Яростная атака на казахский образ жизни черпала оправдание в важнейшем принципе советской национальной политики – в идее, что национальность тесно связана с территорией.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу