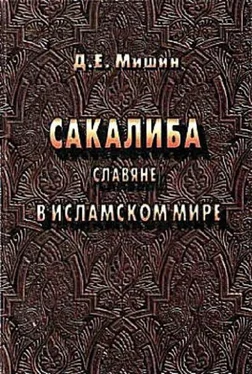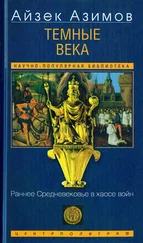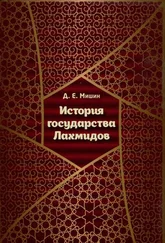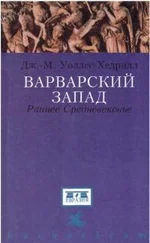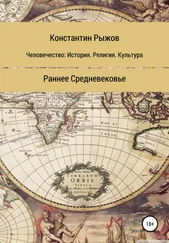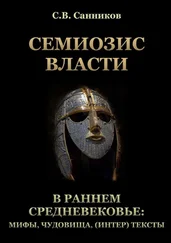Д.М .) расам, этим именем нарекли всех чужеземцев, служивших в гареме или в войске, вне зависимости от их происхождения» [455, т. 3, с. 59–60]. В «Истории» Дози ссылался, прежде всего, на географа Ибн Хаукала, фрагмент о народе
сакалиба в труде которого (988), действительно сложный и неоднозначный, подробно рассматривается ниже (см.: часть I, гл. 2). Не все аргументы, представленные Дози, были корректны
[2] Показателен в этом отношении эпизод с Хубасой Ибн Максаном, берберским военачальником, погибшим при осаде Кордовы весной 1012 г. (об этих событиях см.: часть III, гл. 2). Хубаса был убит в стычке с защищавшими город вольноотпущенниками 'Амиридов (основанная ал-Мансуром династия хаджибов , фактически правившая Андалусией в 978–1009 гг., см.: часть III, гл. 2), причем первый улар, по свидетельству Ибн Хаййана, нанес ему некий ан-Набих Христианин (ан-Насрани) [199, т. 1, с. 494]. Этот эпизод Дози привлекал в доказательство того, что «под именем славян разумелись также христиане севера Испании, служившие в войске мусульман» [455, т. 3, с. 260, прим. 3]. Но в цитате из Ибн Хаййана у Ибн ал-Хатиба, на которую ссылается Дози, слов сакалиба или саклаби нет, и потому отнесение ан-Набиха к сакалиба безосновательно и неправомерно (см.: часть Ш, гл. 2, прим. 30). Сходным образом Дози причислял к сакалиба Наджду, слугу кордовского халифа 'Абд ар-Рахмана III (912–961), участвовавшего в походе на Леон в 939 г. [455, т. 3, с. 61]. Между тем в источниках Наджда именуется ал-Хири, а не ас-Саклаби [230, с. 137]. Э. Леви-Провансаль с полным основанием поправляет здесь Дози, указывая, что Наджда никогда не принадлежал к числу сакалиба [522, т. 2, с. 56, прим. 1].
, но впоследствии, при составлении «Дополнения к арабским словарям», он привел более веские доводы в пользу своей точки зрения [456, т. 1, с. 663–664]
[3] Дози ссылался на примеры, приводимые в тексте под номерами 1 и 6.
. При этом в «Дополнении» Дози несколько модифицировал и саму интерпретацию, заключив, что «слово
саклаб означает собственно славянина, но так как те из них, кто находился в мусульманских странах, были скопцами, оно получило значение "евнух"» [там же].
Спорить с Дози, крупнейшим знатоком истории мусульманской Испании, никто не был в состоянии, однако его замечания касались лишь невольников в Андалусии и мало влияли на анализ сведений о сакалиба в географической литературе. Специалисты, занимавшиеся трудами средневековых мусульманских географов и содержащимися в них сведениями о европейских народах, — Д. А. Хвольсон, А. Я. Гаркави, А. А. Куник, В. Р. Розен и другие — по-прежнему видели в сакалиба славян. Но вскоре и в этой области «славянской интерпретации» понятия сакалиба был нанесен удар. Ф. Вестберг, посвятивший анализу данных восточных источников о сакалиба не одно исследование, пришел к выводу, что это название применялось для обозначения «румянолицых, голубоглазых, русоволосых народов вообще…» [340, с. 369]. Через несколько десятилетий идеи Вестберга поддержал и развил А. Зеки Валили Тоган, издавший в 1939 г. оригинальный текст сообщения Ибн Фадлана («мешхедская рукопись»). Употребление Ибн Фадланом названия сакалиба применительно к волжским булгарам (об этом см.: часть 1, гл. I) вкупе с анализом других восточных источников привело Тогана к заключению, что «слово сакалиба не всегда следует переводить как «славяне»; наоборот, у авторов разных времен оно в каждом конкретном случае имеет свое особое значение, а у арабских писателей X века очень часто применяется для обозначения различных, главным образом светлокожих народов Восточной и Северо-Восточной Европы» [227, с. 295]. Этот вывод Тоган распространял и на слуг- сакалиба в исламском мире, утверждая, что невольники- сакалиба , которые ввозились в исламские страны через Хорезм, — представители тюркских и угро-финских народов Поволжья [227, с. 309].
Противопоставить что-либо аргументации Тогана и в особенности примеру с сакалиба у Ибн Фадлана было довольно сложно. А. П. Ковалевский, работавший с текстом сообщения Ибн Фадлана параллельно с Тоганом, мог лишь осудить, не называя, правда, имен, «крайнюю тенденциозность и стремление во что бы то ни стало игнорировать славянский элемент в Восточной Европе» [12, с. 15, прим. 2]. В остальном подход Ковалевского почти не отличался от позиции Тогана: «Термин «сакалиба» и по своему происхождению, и по обычному употреблению в арабском языке означает славян. Но так как авторы не слишком хорошо разбирались в этнических признаках, а тем более в языках северных народов, то этим термином сплошь и рядом обозначали всевозможные северные народы: и настоящих славян, и финнов, и булгар. Таким образом, в каждом отдельном случае приходится решать вопрос о том, какое содержание вкладывал в это слово данный автор» [12, с. 15].
Читать дальше