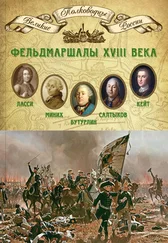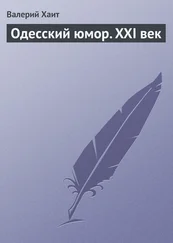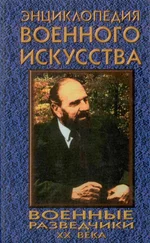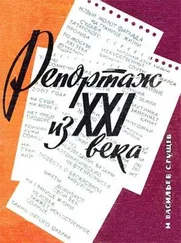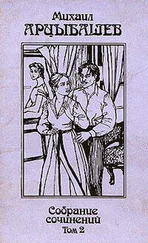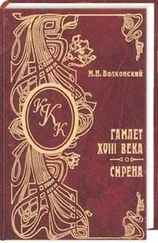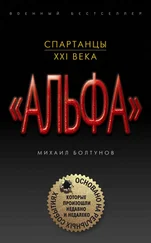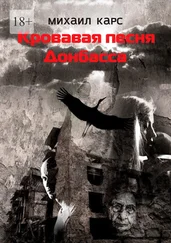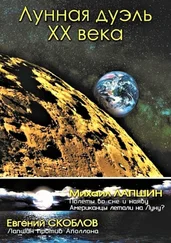В тюрьме Влад оставался более десяти лет и получил свободу, лишь перейдя в католичество. Авторам немецких печатных брошюр это его деяние послужило поводом к некоторому оправданию Дракулы, соответствуя "распространенному сюжету о злодее (разбойнике, тиране), исправившемся после крещения и покаяния" [Варбанец 1964: 190], что, возможно, объясняет "наличие ее изданий в монастырских библиотеках и в числе книг, принадлежавших лицам духовного звания" [Нессельштраус 2000: 163]. У румын же, напротив того, существует поверье: православный, отрекшийся от своей веры, становится вампиром [Florescu, McNally 1979: 150] (ср. суждение М. Элиаде о том, что "страх перед возвращающимися мертвецами и вампирами" возникал как результат "коллективной паники", "исключительных бедствий вроде эпидемии или краха космической и исторической упорядоченности" [Eliade 1970: 241]; о других причинах появления вампиров и оборотней в фольклоре см. [Свешникова 1997]). Возникновение этого верования, видимо, обусловлено механизмом своеобразной "компенсации": переходя в католичество, православный, хотя и сохранял право на причащение Телом Христовым, отказывался от причастия Кровью, поскольку в католичестве двойное причастие — привилегия клира. Соответственно, вероотступник должен был стремиться компенсировать "ущерб", а коль скоро измена вере не обходится без дьявольского вмешательства, то и способ "компенсации" выбирается по дьявольской подсказке. В XV веке тема вероотступничества была особенно актуальна: это — эпоха наиболее интенсивной католической экспансии. О степени накаленности конфликта свидетельствуют слова Стефана Молдавского, обращенные к Ивану III: "…от двою сторон поганьство тяжкое, а от трех сторон ркучи християне, але мне суть хуже поганьства" [Казакова, Лурье 1955: 388; ср.: Панаитеску 1963: 279]. Именно тогда гуситы воевали со всем католическим рыцарством, отстаивая "право Чаши" (т. е. право причащаться Кровью Христовой, будучи католиками-мирянами), за что их и прозвали "чашниками". Борьбу с "чашниками" возглавлял император Сигизмунд Люксембург, и как раз тогда, когда отец Дракулы стал "рыцарем Дракона", главным противником Ордена были не турки, а мятежники-гуситы [Windecke 1886: 96].
Получается, что зловещая репутация вампира, на которой в 1897г. английский писатель Брэм Стокер построил всемирно известный бестселлер "Дракула", могла складываться еще при жизни валашского воеводы, и если отложилась в рассказах о его жизни неотчетливо, то по той причине, что была "закодирована" на фольклорный манер (см. подробнее [Одесский 1995]). Современники вполне могли видеть в Дракуле упыря, однако следует учитывать, что их представление о вампирах существенно отличалось от нынешнего, сложившегося благодаря литературе "ужасов" и кинематографу и восходящего к романтической и неоромантической литературе, а также к преданиям XVII — XVIII веков. В XV веке упыря считали колдуном, чернокнижником, обязательно заключившим союз с дьяволом ради благ мирских (cм. обзор исторических сведений о вампирах в изд. [Summers 1960; Ambelain 1977]). Такому колдуну-вампиру кровь дополнительно нужна для совершения магических обрядов (ср. рассказ А. Калмета о священнике, который совершал все образцовые грехи — сожительствовал с "воображаемой женой", во время литургии не произносил нужных слов, "для какого-то безбожного употребления сосал кровь детей" [Калмет 1866: 43]). Не исключено, что и "кровавые гекатомбы" Влада Цепеша воспринимались аналогично — колдуну-вероотступнику тем более полагалось быть изощренно жестоким, сладострастно экспериментировать с человеческим телом и кровью. Любопытная параллель есть и в русской литературе: колдун-оборотень из повести Н.В. Гоголя "Страшная месть" — вероотступник, причем именно перешедший в католичество, и он — подобно Дракуле — хранит в земле несметные сокровища.
Женившись на родственнице Матьяша Хуньяди, Дракула в 1476 году — при поддержке Венгрии и Молдавии — вторгся в Валахию с намерением вернуть престол, который с 1474 года занимал Лайош Басараб. До конца 1476 года Влад в третий раз вернул себе контроль над княжеством, захватив Тырговиште. Погиб же он не позднее начала 1477 года.
Комментарий: "тако казняше ихъ"
Эпизод носит отчасти "смеховой" характер. Не имея возможности "работать" с человеческим материалом, Дракула переключается на животных, воспроизводя привычные виды казней и пыток: сажает на кол, обезглавливает, сдирает кожу. Вполне последователен — в этой перспективе — переход к ремеслу портного, т. е. дальнейшее (на фоне людей и зверей) упрощение материала, к которому господарь прилагает "мучительские" навыки: "работа" с неодушевленным материалом.
Читать дальше