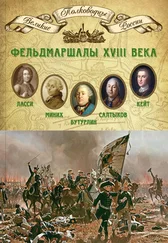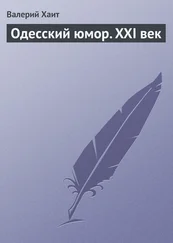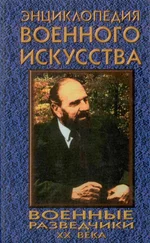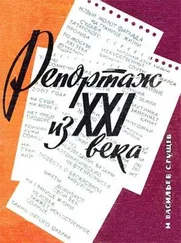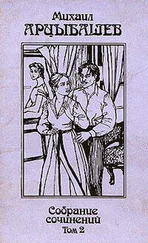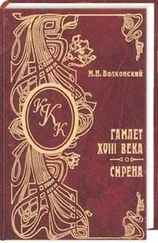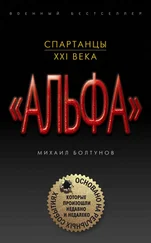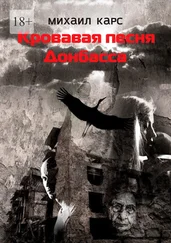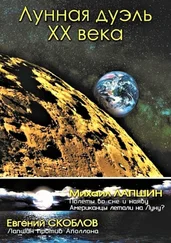Успешно проведя венгерские переговоры, Федор Курицын — на обратном пути в Москву — в 1484г. посетил Стефана Великого, молдавского господаря (1457 — 1504). Показательно, кстати, что информированный автор "Сказания" безразлично именует Стефана то молдавским властителем, то валашским. Видимо, в отличие от Молдавии, с которой у Руси складывались тесные отношения (дочь Стефана — Елена Волошанка — выйдет замуж за наследника Ивана III), Валахия оставалась страной несколько легендарной, "анти-мирной".
Очевидно, при дворе Стефана, давнего (и почти верного) союзника Дракулы, автор "Сказания" почерпнул дополнительные сведения о валашских воеводах. Влад Монах, о котором идет речь в "Сказании", — это брат Дракулы, благодаря активнейшему содействию Стефана Великого взошедший на престол Валахии (1481, 1482 — 1495). Автору, вероятно, важно закончить повесть о "зломудром" воеводе эпизодом с его "достойным" преемником — государем-расстригой, женившимся на вдове убитого предшественника.
Итак, "Сказание" прежде всего специфично тем, что основано на сведениях, собранных за границей, вдобавок, может, за границей и создавалось. "Русский посол, приехавший до августа 1485г., — суммирует исторические факты Я. С. Лурье, — имел полную физическую возможность написать это произведение на основе устных рассказов, услышанных во время пребывания в Будине, Варадине и Молдавии. Задержанный в 1484г. в Белгороде (Аккермане, т. е. в Турции. — М. О.), посол получил и вынужденный досуг для письменных занятий" [Повесть: 44].
Относительная пространственно-временная приближенность автора "Сказания" к описываемым событиям отразилась и на лексике: опираясь на "анекдоты", которые рассказывали иноземцы (или в иноземной среде), он в собственном тексте сохраняет иностранные слова ("поклисарь", "сиромах"), а также — сталкиваясь с неразрешимыми переводческими трудностями — прибегает к "потенциальным словам", к словотворчеству ("зломудрый"). Не удивительно, что "Сказание" до определенной степени достоверно.
Но важно учитывать, что автор, описывая Валахию, сведения собирал в Венгрии (и, возможно, в Молдавии). Валахия оставалась для него "незнаемой" страной. Что не компенсировалось даже конфессиональной общностью: католическая Венгрия в "Сказании" зримей и понятней, чем православная Румыния. Более того, Валахия прямо мифична, ведь автор ориентировался на устные "анекдоты", в которых информация "кодировалась" по фольклорно-мифологическим законам.
Румыния изображена сказочным — вне каких-то особых "этнографических" подробностей, без имени столицы — государством, где реализована утопия "грозного" царя. Короче говоря, Валахия — это страна Дракулы и "дракулических" (вроде Влада Монаха) воевод, а Дракула — демонический государь со всеми подобающими атрибутами, жестокостью, остроумием, даром колдуна.
Образ Дракулы отнюдь не формулируется как альтернатива привычному на Руси образу властителя. Правдоподобней здесь другая логика, напоминающая позднейшие сочинения Пересветова. Дракула — повелитель "анти-мира". Его кровожадную изощренность европейцы воспринимали в качестве некой восточной экзотики, абсолютно неуместной в "цивилизованной" державе. Когда Джон Типтофт, граф Уорчестер, вероятно, наслушавшись об эффективных "дракулических" методах во время дипломатической службы при папском дворе, стал сажать на кол линкольнширских мятежников в 1470 году, его самого казнили за поступки — как гласил приговор — "противные законам данной страны" [Florescu, McNally 1973: 4]. Но у "аномального" государя есть чему поучиться. Государю "нормальной" Москвы, к примеру, не худо бы освоить навыки "грозного" — жестокого, но справедливого — управления [Одесский 2000: 9-11]: что получалось у "зломудрого" Дракулы, еще краше смотрелось бы на Святой Руси.