При составлении карты Китайского государства я положил себе правилом, для избежания излишней пестроты, наносить названия тех только мест, которые по значительности своей вошли в состав географического описания. Таким образом, я со всею точностью показал на карте:
1. Управляющие города.
2. Крепости, важные в географическом, политическом и стратегическом отношениях.
3. Направление горных кряжей и пространство их.
4. Славные горы, особенно те, на которых разведены чайные усадьбы, произращающие чай.
5. Большие озера.
6. Источники, течение и устья судоходных рек.
7. Главные сухопутные и водяные сообщения.
При составлении карт Маньчжурии, Монголии и Восточного Тюрки-стана пустота поля в некоторых местах дозволяла мне делать отступление от вышеизложенного правила, и я, сверх нужного, внес места замечательные по историческим преданиям. Другим образом я поступил с картой Тибета. Она составлена в 1712 году не римско-католическими проповедниками, а монгольскими ламами, которые несколько изучили европейскую астрономию. Но ученые ламы, как видно из описания их трудов, дошли только до Гантесири, высочайшей снеговой горы, по южную сторону которой положили исток Ганги из озера Мапам. Они, по указу своего государя, наполнили сосуды священною водою из мнимой Ганги и прекратили свое астрономическое путешествие, а земли, лежащие от Гантесири далее на запад, положили на карту со слов туземцев, с большими погрешностями в отношении к истинному положению гор и рек. Сию часть Тибета я снял с карты Восточной Азии, изданной г. Риттером, а сей основался на карте г. Мур-Кроффа, который первый из европейцев в 1812 году (ровно через столетие) открыл вышеозначенную ошибку монгольских астрономов.
В определении географической широты и долготы мест я следовал астрономическим съемкам, учиненным веропроповедниками при составлении карт. Одно только место исключено из сего правила, это русская граница, часть которой от Бухтармы на восток до Кяхты снята с разных русских карт, а от Кяхты на восток до стрелки, образуемой соединением Аргуни [36] с Шилкою, положена по новейшим наблюдениям, учиненным в 1832 году членом Российской академии наук Егором Николаевичем Фусом. По его же наблюдениям положен на карту путь Российской духовной миссии, следовавшей из Кяхты в Пекин в 1830 году. Только при составлении карты Маньчжурии встретилось мне затруднение. Многие места как на китайских, так и на европейских картах поставлены против астрономического определения долготы их в западные от 15' до 1°. Таковые места суть: Цзинь-чжеу-фу 45', Гиринь 24', Нингута 30', Бэдунэ-хотонь 32', Цици-кар 15', Мэргэнь 30', Хэй-лун-цзян-чен 28' и проч. Все сии места я оставил на прежних точках долготы, предполагая, что самые астрономические наблюдения, которыми я пользовался, неверно было списаны.
Границы монгольских владений с Китаем взаимно между собою положены на основании частных (специальных) топографических карт, находящихся в изложении китайского законодательства, изданном в 1812 году (Сие изложение занимает первые четыре тома в Собрании китайских уложений, изданном в 48 больших томах под названием Да-цин хой-дянь.). Сии границы в европейском атласе Китайской империи нигде не означены, исключая Великой стены, отделяющей Китай, частокола, отделяющего Маньчжурию от Монголии, и черты, отделяющей Южную Монголию от Северной.
В моих картах, как я предвижу, будет заметно каждому небольшое от прежних карт отличие, которое в некоторых местах может привести читателя в недоумение. У нас при составлении карт не обращают внимания на собственные имена, а в Китае названия мест вообще состоят из целых выражений и пишутся иногда полные, иногда неполные. На малых картах часто в именах городов опускается то слово, которое означает степень города, например, вместо Шунь-тьхянь-фу, Тхун-чжеу и Мын-цзинь-сянь пишут Шунь-тьхянь , Тхун , Мын-цзинь . Здесь слова: фу — областной, чжеу — окружной, сянь — уездный город опущены потому, что самые географические знаки заключают в себе смысл помянутых слов. Подобным образом и на русских картах пишут акшинская, чалбучинский. Здесь по географическим знакам можно видеть, что в первом месте разумеется крепость акшинская, во втором караул чалбучинский. Но в сочинениях не должно следовать сему правилу. Известнейшие места иногда употребляются без слов, означающих степень города, например, Су-чжеу, Хан-чжеу, Ян-чжеу. Касательно прочих городов, если доведется в сочинении употребить неполное название, например, Шунь-тьхянь, Да-мин, то иногда может произойти двусмысленность и даже бессмыслица. Таким же образом иногда путешественники пишут: мы сделали привал у речки Хара, ночевку имели при речке Шара. Спросите у местного монгола, водится ли рыба в Харе или глубока ли Шара? Он немед ленно [37] даст вам ответ: не понимаю. Хара — черный и шара — желтый без приданных к ним существительных имен означают только качества цветов, а помянутые речки полными именами называются Хара-усу — черная речка и Шара-гол — желтая (т. е. мутная) речка.
Читать дальше
![Никита [ИАКИНФ] Бичурин СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Китайской империи обложка книги](/books/204906/nikita-iakinf-bichurin-statisticheskoe-opisanie-ki-cover.webp)
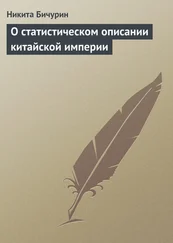

![Никита [ИАКИНФ] Бичурин - Китай в гражданском и нравственном состоянии](/books/204905/nikita-iakinf-bichurin-kitaj-v-grazhdanskom-i-nrav-thumb.webp)