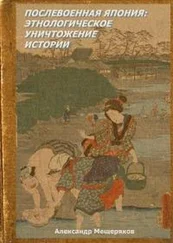Лишенный любви к сакуре не мог носить звание настоящего японца. Цветом японца был объявлен белый. Крестьяне полагали, что бурное цветение сакуры – предвестник богатого урожая. Хэйанские аристократы считали, что ее цветы символизируют буддийское положение о непрочности и иллюзорности жизни. Теперь быстротечность цветения сакуры ассоциировалась с готовностью к самопожертвованию во имя императора и его Японии. Нашей Японии. Газеты времен японско-русской войны помещали на первых страницах своих экстренных выпусков рисованные портреты героев в обрамлении из цветов сакуры [315]. На вышитых золотой нитью погонах адмиралов красовалось три цветка сакуры (в сухопутных войсках знаком различия служили пятиконечные звезды). В отличие от Запада, где державность обычно рядилась в перья и шкуры хищников (орел, лев, тигр), в Японии господствовал растительный код национализма.
Перспектива.Во время Второй мировой войны предназначенные для воинов-камикадзе летательные аппараты одноразового использования назывались «цветок сакуры». Когда война уже подходила к концу, перед своим последним полетом пилот-смертник младший лейтенант Окабэ Хэйити сочинил:
Нам бы только упасть,
Словно весенняя сакура —
Лепестки так чисты и сияющи!
Это была первая война, когда каждую часть сопровождали фотографы. И пусть фотоаппараты того времени не были в состоянии фиксировать быстрое движение, почин был сделан. С этих пор военные фотографы начинают все больше вытеснять работы военных художников.
Закрепленное в культуре стремление к документированию истории (в том числе персональной) обусловило тот факт, что фотография к этому времени получила в Японии широчайшее распространение. Так что фотографы хорошо зарабатывали и в тылу – каждый солдат считал своим долгом перед отправкой на фронт оставить свое изображение родным. Порой не просто на память. Фотографии погибших стало принято ставить на домашний алтарь и там совершать изображению приношения, «кормить» фотографию. Когда в Японии появились первые фотографы, их фирменной приманкой была фраза: «Ценнейшее искусство: сохраним для потомков папу с мамой на сто лет вперед». Теперь фотографы сохраняли для родителей образ погибшего сына.
Японцы предусмотрительны и склонны к планированию своей жизни, подготовка к собственной смерти тоже входила в планы юных солдат. Это не мешало им предвкушать будущие триумфы – в лавках их вниманию предлагались бесчисленные дешевенькие литографии с изображениями гипотетических будущих побед в тех битвах, которые еще не состоялись. В воздухе пахло триумфами, о поражении не думал никто. Уходившие на фронт ласковые солдаты дарили детям глиняные головки русских воинов, обещая вернуться домой с настоящими головами бородатых казаков. Разница в отношении к «своим» и «чужим» выявлена в японской культуре еще отчетливее, чем в других.

Исикава Такубоку с женой
Люди дарили друг другу полотенца с изображениями батальных сцен, одежды девочек покрывали орнаменты из военных кораблей и пушек. Продолжая верить в перерождение, японцы отдавали все свои будущие жизни императору Мэйдзи. Лозунгом дня стало выражение «Ситисё хококу» – «Все семь жизней – своей стране». Раньше, при сёгунате, эта страна требовала от «простых» людей только налогов и мускульных усилий. Теперь она завладела и душами.
Юный поэт Исикава Такубоку (1886–1912) в начале войны буквально сгорал от патриотической лихорадки. Он записал в своем дневнике, что должен сочинить песню для патриотов – для тех, кто хочет петь, но не имеет для этого слов. Но он был настоящим поэтом. Стоило газетам сообщить о гибели подорвавшегося на мине «Петропавловска» с адмиралом Макаровым на борту, как Такубоку написал поэму «Памяти адмирала Макарова», в которой он призывал забыть про распрю.
Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,
Не наносите яростных ударов,
Замрите со склоненной головой
При звуках имени его: Макаров!
Его я славлю в час вражды слепой
Сквозь грозный рев потопа и пожаров.
В морской пучине, там, где вал кипит,
Защитник Порт-Артура ныне спит.
(Перевод В. Н. Марковой)

Ёсано Акико
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
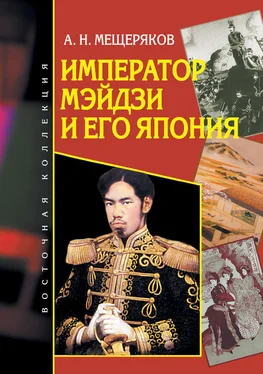




![Александр Мещеряков - Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения]](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-thumb.webp)