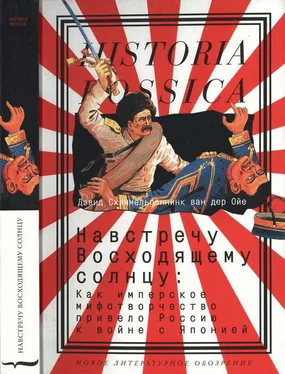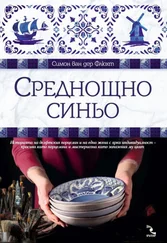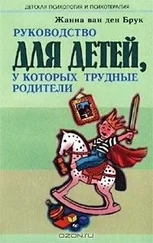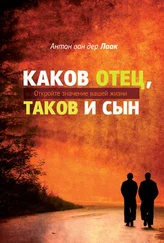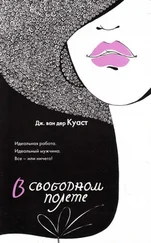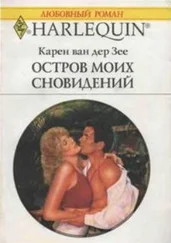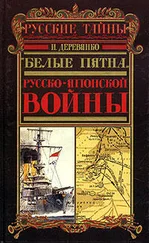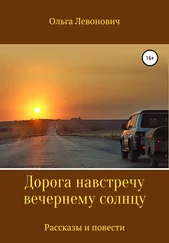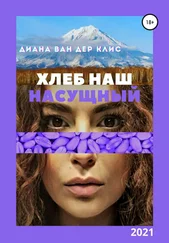Соловьев считал угрозу, идущую с Дальнего Востока, библейским наказанием, знаком гнева Божия на христиан, не способных примириться между собой. Один ученый даже сравнивал азиатов с одной из семи казней Ветхого Завета, отмечая, что в Средние века эмблемой для обозначения монголов была саранча {387} . Философ Николай Бердяев размышлял: «Христианской России и христианской Европе, как кара за грехи, за измену Христу… грозит панмонголизм, крайний Восток, до сих пор дремавший, Восток, нами забытый» {388} .
В то время как экуменические призывы Соловьева мало кем были услышаны, идея об опасности, идущей с Востока, завладела умами многих русских. В большей степени, чем кто-либо другой, Владимир Соловьев способствовал возникновению у соотечественников представления о «желтой угрозе». Его апокалиптические раздумья нашли благодарную аудиторию в среде поэтов и философов Серебряного века, особенно в беспокойное время после 1905 г.
До войны с Японией такие настроения в образованных слоях русского общества были редкостью. И все же некоторые его представители разделяли глубокие опасения Соловьева по поводу Восточной Азии и потенциальной угрозы с ее стороны. Наиболее влиятельным выразителем таких идей в царском правительстве был военный министр Алексей Куропаткин. Представления о «желтой угрозе» не играли в восточноазиатской политике на рубеже веков столь важной роли, как идеи, обсуждавшиеся в трех предыдущих главах, но они составляли скрытое интеллектуальное течение, влияние которого ощущалось в Петербурге. Его ведущим сторонником в официальных кругах и был генерал Куропаткин.
* * *
Как и многие офицеры императорской армии, Алексей Николаевич Куропаткин родился в своей касте {389} . Он появился на свет 17 марта 1848 г. в имении своих родителей в деревне Шешурино, недалеко от Пскова. Его отец, капитан Николай Емельянович Куропаткин, преподавал геодезию в различных военных учебных заведениях Петербурга. В 1861 г., одновременно с освобождением крестьян, Николай Емельянович покинул действительную службу. Вернувшись в деревню, он посвятил остаток жизни участию в новоучрежденном земском самоуправлении.
Николай Емельянович позаботился о том, чтобы его сын получил надлежащее военное образование. Алексей Николаевич был зачислен в престижный столичный 1-й кадетский корпус, затем окончил Павловское училище в 1866 г. В 1860-е гг. воспитанники даже таких аристократических заведений были подвержены радикальным настроениям поколения. Годы спустя Куропаткин вспоминал, что до 1866 г. он был «народником старой школы» {390} . Книги, более всего повлиявшие на него в те годы, — «Отцы и дети» Ивана Тургенева и «Что делать?» Николая Чернышевского {391} . В зрелом возрасте Алексей Николаевич, как и его отец, придерживался умеренно либеральных взглядов и горячо поддерживал земство {392} . [45]
После окончания училища Куропаткина назначили младшим офицером в 1-ю Туркестанскую стрелковую бригаду. С этого началась его долгая служба империи в век колониальных войн. Россия только начала кампанию по завоеванию ханств в Средней Азии. После деморализующего поражения в Крыму десятью годами ранее пески Туркестана предлагали великолепные возможности для молодых офицеров, желающих отличиться.
Куропаткин быстро показал себя. В последующие два года он участвовал в действиях против Бухарского эмирата, в частности в двух штурмах Самарканда. К 1869 г. он уже командовал батальоном, а в 1871 г. поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. Куропаткин оказался столь же способным и к учебе и окончил академию первым в списке выпускников. За отличную учебу он был награжден поездкой за границу с пребыванием в Германии, Франции и Алжире. Северная Африка представляла особый интерес, поскольку французская армия воевала против кочевников-мусульман в войне, напоминавшей Куропаткину его собственные сражения в Туркестане.

Алексей Николаевич Куропаткин
Алексей Николаевич возвратился в Россию с орденом Почетного легиона за храбрость, проявленную в Сахаре, а также с большим количеством сведений о французских кампаниях. В течение последующего года он опубликовал статью в «Военном сборнике» «Очерки Алжирии», за которой последовала серия «военно-статистических» очерков о регионе {393} . Начальство вскоре направило своего офицера обратно в Туркестан, где он получил свой первый Георгиевский крест за храбрость, проявленную в сражении против кокандцев. Чрезвычайно благоприятным для его карьеры было его назначение начальником штаба у генерал-майора Михаила Скобелева. Известный в народе как «белый генерал», Скобелев был блестящим командиром, чьи подвиги в Средней Азии прославили его в русском обществе.
Читать дальше