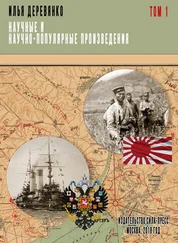Для бывшего министра царского правительства и высокопоставленного генерала императорской армии Куропаткин относительно благополучно пережил установление советского режима. Невзирая на уговоры французского посла, Алексей Николаевич отказался эмигрировать и предпочел прожить остаток дней школьным учителем в родной деревне Шешурино. Он мирно скончался в январе 1925 г.
* * *
У русских, которые пережили почти два столетия монгольского владычества, лучше, чем у кого-либо из европейцев, должна была сохраниться историческая память об опасности, которая может прийти с Востока. Летописные свидетельства, такие как «Повесть о разорении Рязани Батыем», и средневековые былины были полны леденящими кровь описаниями изуверств, совершенных кочевниками с Востока во время нашествия в 1230-х гг. [48]. Несмотря на это, к XIX в. отношение народа к Восточной Азии стало относительно доброжелательным. Иван Крылов вряд ли хотел навести на читателей ужас, когда писал в басне «Три мужика»: «Есть слух — война с Китаем: / Наш Батюшка велел взять дань с Китайцев чаем». Когда в 1880-х гг. группа учителей провела среди русских крестьян опрос с целью выяснить, каковы их знания о мире, они обнаружили, что респонденты очень положительно относятся к Китаю. В ответах на вопросы, какая страна является самой сильной и самой богатой, в обоих случаях чаще всего упоминался Китай, оставив позади себя даже Россию. Крестьяне часто делали вывод о богатстве и могуществе Китая, потому что его император никогда не тратил свои ресурсы на войны, в отличие от их собственного царя. Еще более поразительно, что некоторые считали китайцев единоверным народом {414} .
Среди интеллигенции отношение было менее благоприятным. Во время правления Николая I (1825—1855) прогрессивно настроенные авторы начали приравнивать Китай к летаргии, застою и деспотизму. Александр Пушкин писал про стены «недвижного Китая», а Виссарион Белинский замечал о китайцах: «До сих пор, с незапамятных времен, они коснеют в нравственной неподвижности, непробудным сном спят на лоне матери природы» {415} . Александр Герцен также презрительно отзывался о Срединном царстве: «…нельзя положительно утверждать, что Китай, например, или Япония будут продолжать века и века свою отчужденную, замкнутую, остановившуюся форму бытия. Почем знать, что какое-нибудь слово не падет каплей дрожжей в эти сонные миллионы и не поднимет их к новой жизни?» {416} . В глазах западников, таких как Белинский и Герцен, восточный сосед воплощал все, против чего они восставали. Китай являлся для России напоминанием о том, во что она сама может превратиться. Враги самодержавия даже взялись писать о династии Цин в эзоповской критике династии Романовых {417} .
Иногда писатели XIX в. изображали Восточную Азию в более зловещем свете. В конце романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» герой-убийца Раскольников видит кошмары, лежа на тюремной койке: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу» {418} . Высказывалось предположение, что восточные черты и одежда Ноздрева в романе Гоголя «Мертвые души» должны были подчеркнуть его агрессивное поведение {419} .
Ошеломительный дебют Японии в качестве тихоокеанской державы в середине 1890-х гг. способствовал возникновению беспокойства по поводу желтой угрозы. Но страх, что Япония может возглавить натиск с востока, существовал и раньше. Это представление, возможно, впервые заявило о себе в России в книге Василия Головнина, морского офицера, который попал в плен к японцам вместе со своей командой в экспедиции на Курилы в 1811 г. Описание, составленное им за два года пребывания в плену, явилось одним из немногих выходивших тогда в Европе подробных очерков о Японии, добровольно изолировавшей себя от мира. В целом капитан представил довольно объективный взгляд, даже признав, что у японцев были основания взять его в плен. Покидая Японию, он размышлял: «…наступивший благоприятный ветер быстро понес корабль и отдалял нас от берегов, на коих испытали мы столь много несчастья и великодушия мирных жителей, называемых от европейцев (может быть, уже чересчур просвещенных?) “варварами”» {420} . Когда речь зашла о японской армии, Головнин заключил, что «в военных науках всякого рода они… еще младенцы» {421} . Недостаток военной доблести являлся результатом изоляции империи и отрицательного отношения к инновациям. Читатели после 1904 г. сочтут зловещим пророчеством его замечание о том, что неспособность усвоить современные способы ведения войны не является для обитателей острова врожденной: «…если бы японское правительство пожелало иметь военный флот, то весьма нетрудно устроить оный на европейский образец и довести до возможного совершенства» {422} . По словам Головкина, другим странам очень повезло, что Япония считает для себя недостойным вступать в контакт с Западом, потому что хороший лидер («подобный великому нашему Петру») мог бы привести Японию к господству на Тихом океане. «А если бы случилось, что японцы вздумали ввести к себе европейское просвещение и последовали нашей политике, тогда и китайцы нашлись бы принужденными то же самое сделать. В таком случае сии два сильные народа могли бы дать совсем другой вид европейским делам» {423} .
Читать дальше