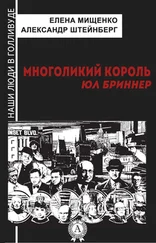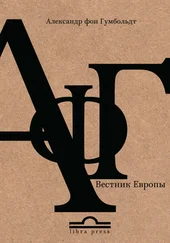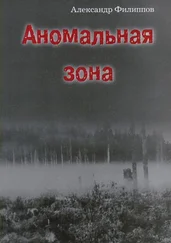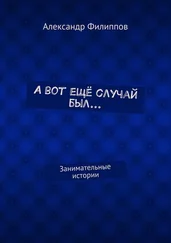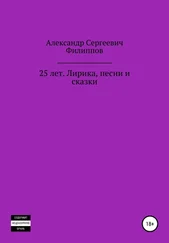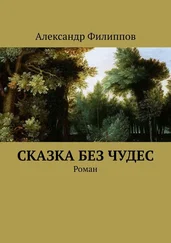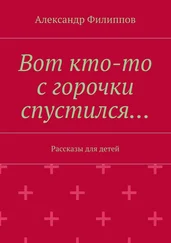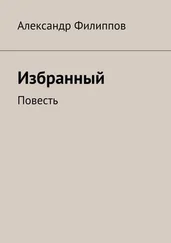До сих пор мы могли бы более или менее точно предсказать, что будет происходить. При увеличении «блошиной» постоянной все, однако, быстро усложняется. Кривые, которые их притягивают, продолжают раздваиваться, и при b  1,5 скачки становятся почти непредсказуемыми, беспорядочными. На рисунке этому соответствует зачерненная область. Например, если блоха начинает движение на отрезке B 3 B 3', то она притянется к отрезку C 3 C 3'. Предельные значения ее координат плотно заполняют этот отрезок (на самом деле, как показывают дальнейшие эксперименты, устройство зачерненного притягивающего множества гораздо сложнее, читатель может попробовать изучить его в экспериментах).
1,5 скачки становятся почти непредсказуемыми, беспорядочными. На рисунке этому соответствует зачерненная область. Например, если блоха начинает движение на отрезке B 3 B 3', то она притянется к отрезку C 3 C 3'. Предельные значения ее координат плотно заполняют этот отрезок (на самом деле, как показывают дальнейшие эксперименты, устройство зачерненного притягивающего множества гораздо сложнее, читатель может попробовать изучить его в экспериментах).
Притягивающее множество в научной литературе называют аттрактором . Например, аттрактор маятника с трением состоит из единственной точки нижнего положения равновесия. Аттрактор раскачиваемых качелей — периодическое движение, при котором потери на трение точно компенсируются энергией, затрачиваемой на раскачивание. Аттрактор нашей блошиной модели имеет весьма сложную структуру. При b  1,5 движение блохи периодическое — она регулярно перескакивает с одной ветки на другую. На линиях B 1 B 1' характер движения меняется скачком, так как число ветвей удваивается. Это очень типичное для нелинейных систем явление называется бифуркацией (от слова bifurcate — раздваиваться, разветвляться). При увеличении b наша система переходит через последовательность бифуркаций в область хаотического движения (для блохи хаос означает свободу; увеличивая свою постоянную, она может перейти из «царства необходимости» в «царство свободы»).
1,5 движение блохи периодическое — она регулярно перескакивает с одной ветки на другую. На линиях B 1 B 1' характер движения меняется скачком, так как число ветвей удваивается. Это очень типичное для нелинейных систем явление называется бифуркацией (от слова bifurcate — раздваиваться, разветвляться). При увеличении b наша система переходит через последовательность бифуркаций в область хаотического движения (для блохи хаос означает свободу; увеличивая свою постоянную, она может перейти из «царства необходимости» в «царство свободы»).
Любопытно, что в этом царстве свободы время от времени (точнее, при некоторых значениях b ) возникают «островки необходимости» — движение вновь становится периодическим. Однако если при b  1,5 период равен 2 n , то в этих островках он равен 3, 5, 7 и т. д.
1,5 период равен 2 n , то в этих островках он равен 3, 5, 7 и т. д.
Вся эта картина соотношения между периодическими и хаотическими движениями — удвоение периода, переход к хаотическому движению, появление островков периодичности — типична для многих физических систем. Притягивающее множество, на котором движение хаотично, называют «странным аттрактором».
Внимательный читатель, который не поленился самостоятельно выполнить численные эксперименты с блошиной моделью, мог бы обнаружить замечательную закономерность в бифуркациях. Обозначим величины блошиной постоянной в точках бифуркаций буквами b n , так что b 1= -0,25, b 2= 0,75 и т. д. Оказывается, что при больших значениях n разности этих чисел образуют геометрическую прогрессию. Точнее, выполнено соотношение
( b n+ 1- b n )/( b n- b n- 1) → 1/δ, δ = 4,6692 ...
Эту замечательную закономерность открыл американский физик Митчел Фейгенбаум в 1975 г. Он изучал на карманной вычислительной машинке модель, очень похожую на изученную нами. Обнаружив эту закономерность, он стал исследовать другие отображения и вскоре понял, что открыл новый закон природы. Убедить в этом других ученых, оказалось не так-то просто, два-три года журналы не принимали его статьи. Однако в наше время есть много других способов обнародовать свое открытие, например научные конференции, и вскоре исследование бифуркаций и хаоса стало одной из наиболее модных научных тем. Число называется теперь постоянной Фейгенбаума, а найденная им закономерность в распределении бифуркаций — законом подобия Фейгенбаума.
Изучению таких моделей посвящается сейчас немало серьезных научных работ, и блошиная модель заимствована из современного физического журнала. Это, конечно, только первый шаг на пути к пониманию турбулентности, но похоже, что он выведет на дорогу, двигаясь по которой можно будет полностью разобраться в природе этого сложного явления. «Так о великих вещах помогают составить понятье малые вещи, пути намечая для их достиженья» (Лукреций Кар).
Турбулентное поведение может возникать даже в простых физических системах. Раньше физиков в основном интересовал хаос несколько иного происхождения — молекулярный хаос, возникающий в системах из очень большого числа взаимодействующих друг с другом частиц. Уже Д. Бернулли и Ломоносов понимали, что тепловые явления объясняются беспорядочным движением молекул. Однако только после работ Клаузиуса, Максвелла и Больцмана это представление превратилось в настоящую физическую теорию.
Читать дальше
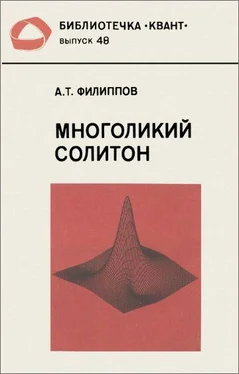
 1,5 скачки становятся почти непредсказуемыми, беспорядочными. На рисунке этому соответствует зачерненная область. Например, если блоха начинает движение на отрезке B 3 B 3', то она притянется к отрезку C 3 C 3'. Предельные значения ее координат плотно заполняют этот отрезок (на самом деле, как показывают дальнейшие эксперименты, устройство зачерненного притягивающего множества гораздо сложнее, читатель может попробовать изучить его в экспериментах).
1,5 скачки становятся почти непредсказуемыми, беспорядочными. На рисунке этому соответствует зачерненная область. Например, если блоха начинает движение на отрезке B 3 B 3', то она притянется к отрезку C 3 C 3'. Предельные значения ее координат плотно заполняют этот отрезок (на самом деле, как показывают дальнейшие эксперименты, устройство зачерненного притягивающего множества гораздо сложнее, читатель может попробовать изучить его в экспериментах). 1,5 период равен 2 n , то в этих островках он равен 3, 5, 7 и т. д.
1,5 период равен 2 n , то в этих островках он равен 3, 5, 7 и т. д.