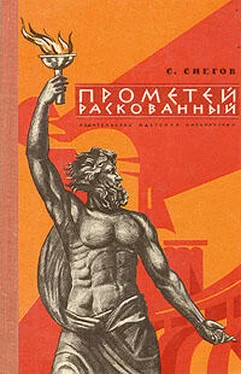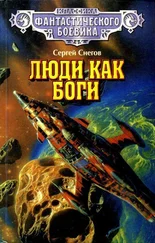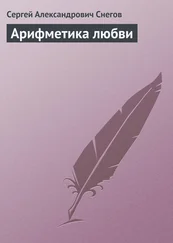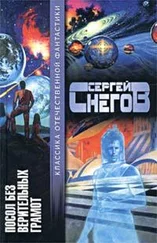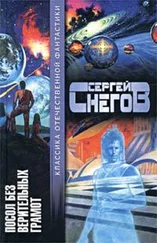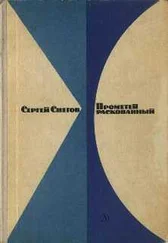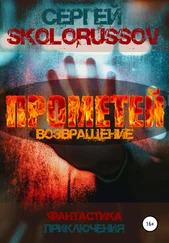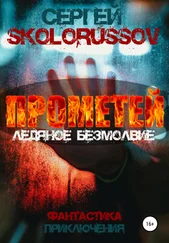В ноябре 1944 года Курчатов подписал технические условия на металлический уран. Это требование, предъявленное физиками промышленности, металлурги оценили как еще неслыханно трудное, но приняли к исполнению. Один из заводов боеприпасов превратили в специализированное урановое предприятие. Но дело на нем поначалу шло плохо. Химики-аналитики браковали одну партию урана за другой. Бор, главный яд, обнаруживался в каждом слитке, других «отравителей» тоже хватало. В докладе правительству, составленном в том же 1945 году, Курчатов писал, что без сверхчистого урана невозможно пустить реактор, и указывал, что графит, поставляемый ныне физикам, содержит в 20 раз меньше вредных примесей, чем уран: если металлурги введут у себя такую же очистку, какую освоили на электродном заводе, уран станет вполне доброкачественным. В помощь металлургам Курчатов послал Гончарова и Правдюка, те уже имели опыт борьбы с вредными примесями.
Но металлургия урана и производство графита — технологии разные. Ведущие инженеры и руководители завода — Невструев, Золотуха, Голованов, Каллистов, Галкин, Белов — меняли способы плавки, но не могли избавиться от бора. Завенягин, приехав на завод и мрачно глядя на рыхлый, загрязненный бором слиток, с упреком сказал начальнику производства Белову, своему старому знакомому по Норильску, где Завенягин руководил всем горно-металлургическим комбинатом (сейчас он носит имя А. П. Завенягина), а Белов был директором никелевого завода:
— Александр Романович, себя не жалеешь, твое дело, но хоть меня, больного, пожалей — не доводи до инфаркта!
Решение проблемы все же пришло от графита. Урановый расплав из печи выливался в изложницы — американские графитовые тигли. А они-то и были заражены бором. Электродный завод получил новый заказ — уже не на сверхчистые графитовые кирпичи, а на тигли такой же уникальной чистоты. Партию сверхчистых тиглей привезли на урановый завод, и проблема бора потеряла свою остроту.
Когда металлурги разработали свои схемы плавок, более пригодные для крупного производства, и в качестве сырья стали поступать не собираемые отовсюду разномастные урановые препараты, а урановая руда примерно одного состава, металлический уран, отправляемый физикам, удовлетворял самым строгим их требованиям.
Первая партия сверхчистого урана — 6 тонн — дала возможность приступить наконец к возведению уран-графитового реактора. По расчету требовалось около 50 тонн урана и 500 тонн графита, чтобы пошла самоподдерживающаяся реакция. Пришла пора от выкладывания графитовых призм перейти к кладке самого уранового «атомного котла», названного Ф-1 (физический первый). Котел возводили в новом каменном здании, заменившем прежнюю брезентовую палатку.
«Большую кладку» начали летом 1946 года — к этому времени и урана и графита накопилось достаточно. С уранового завода прислали в помощь рабочих. Теперь Курчатова чаще всего можно было видеть здесь; он уходил отсюда в два ночи, в четыре спрашивал по телефону, как дела, а в девять — «как штык», вспоминали потом рабочие — уже сам командовал монтажом. Панасюк и его помощники с ног сбивались, чтобы выполнять команды руководителя с той же стремительностью, с какой они делались.
Слой графита выкладывался за слоем, один ряд урановых блочков встраивался в графит за другим. Приборы показывали систематическое нарастание потока нейтронов. Утром 25 декабря 1946 года стали выкладывать 62-й слой. По расчету самоподдерживающаяся реакция должна была пойти примерно на нем: уже 58-й слой показал крутой всплеск нейтронов.
В два часа дня Курчатов занял место за пультом. На пуске, кроме него и Панасюка, разрешено было остаться Дубовскому — он отвечал за «вредность», Бабулевичу, ответственному за СУЗ (систему управления и защиты), и оператору Кондратьеву — «Кузьмичу».
«Включены все приборы, сигнализирующие о радиационной опасности, проверена исправность системы управления и защиты и группы контрольно-измерительных приборов.
Два аварийных кадмиевых стержня находятся во взведенном состоянии: достаточно нажать на кнопку, и они упадут в вертикальные каналы реактора, чтобы моментально погасить цепную реакцию.
И. В. Курчатов поднимает еще находившийся в реакторе кадмиевый стержень (регулирующий). Ранее редкие (фоновые) звуковые щелчки и вспышки неоновых ламп от гамма-лучевых и нейтронных датчиков, расположенных внутри реактора и на его поверхности, стали все чаще. Частота щелчков и световых сигналов увеличилась, но вот они уже остаются постоянными — пока что реактор не достиг критичности.
Читать дальше