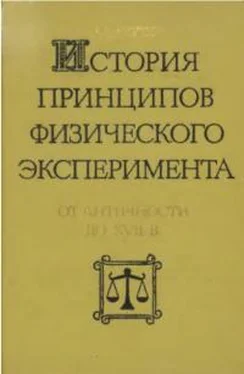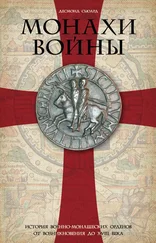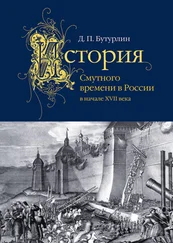Б. Эксперимент как формирование нового предмета
Мы уже говорили, что коперниканское мышление парадоксальным образом должно было быть не только критиком мнений и теорий, но и критиком самих «вещей». В том аспекте, о котором мы только что говорили, эксперимент можно было бы охарактеризовать как проверку существующих научных мнений или «естественных» понятий на способность мыслить новый предмет, и задача экспериментирования состояла в том, чтобы на примере обычных процессов и обыденных вещей, поставленных в особые (предельные) условия, изменить понятия и навыки мышления. Но этот аспект совмещается с другим, который выступает на первый план по мере того, как новая наука начинает действовать самостоятельно. Эксперимент при этом оказывается проверкой самого предмета на способность быть предметом исследования. Его цель в этом случае заключается в том, чтобы найти среди «естественных» предметов тот, который понятие может осознать как существенный, либо же сформировать такой предмет в «искусственных» условиях. Разумеется, преобразовать сознание можно лишь в той мере, в какой я вовлекаю его в преобразование предмета, и, напротив, всякое преобразование предмета формирует и новое понятие о нем — это, собственно, и составляет содержание эксперимента. Но важно выделить эти два процесса в едином акте эксперимента.
Наличие этих двух аспектов превращает эксперимент в некий парадокс, если рассматривать его как средство верификации или фальсификации. Когда я собираюсь на опыте подтвердить свою теоретическую концепцию, оказывается, что подтвержденной она является уже не для того сознания, которое требовало подтверждений. Наоборот, когда я хочу испытать свою теорию, сталкивая ее с предметом, оказывается, что теория схватывает этот предмет и преобразует его по своим канонам. Попытаемся разобраться в этом подробнее.
«Кто же настолько слеп,— восклицает Симпличио в начале Первого дня,— чтобы не видеть, как части Земли и воды движутся, будучи тяжелыми, естественным образом вниз, т. е. по направлению к центру Вселенной. ...Кто не видит равным образом, что огонь и воздух движутся прямо вверх по направлению к лунной орбите, естественному конечному пункту движения sursum » (I, 130). «...Если вы не видите,—недоумевает он,—как ежедневно рождаются и разрушаются травы, деревья, животные, то что же вы видите? Как не замечаете вы постоянной борьбы противоположностей, не видите, что земля превращается в воду, вода превращается в воздух, воздух в огонь и снова воздух уплотняется в облако, в дождь, в град и грозу» (I, 139). И тем не менее Сальвиати и Сагредо готовы отрицать наличие таких вещей и событий, ибо у них иная точка зрения, с которой перед их глазами раскрывается совершенно противоположное тому, что перед глазами перипатетиков (I, 90).
С этой точки зрения им видно, что то, что имеет для Симпличио статус предмета, несет в себе теоретические «предпосылки, которые не так-то легко принять» (I, 136) и, что при перемене предпосылок видимость должна решительно измениться. Теория раскрывается не просто как теория о предмете, но как «форма» (теоретическая) самого предмета. Именно поэтому всякое внутритеоретическое движение непосредственно связано с изменением (теоретического) предмета. Преобразование планетной системы Коперником было одним из первых преобразований предмета, которое произвела новая наука. Вся деятельность Галилея в значительной степени есть лишь уяснение следствий такого преобразования. Следующим фундаментальным шагом, сделанным самим Галилеем, было разрушение «лунной грани», которое, как мы говорили, с необходимостью повлекло за собой преобразование всей физики и всей логики мышления в целом.
«Теория относительности» Галилея состояла прежде всего в релятивизации абсолютного места, выразившейся в критике привилегированного положения Земли. Эта критика носила принципиально физический характер, так как вся физика Земли (теория естественных и насильственных движений, «стихийный» характер физических процессов и т. д.) определялась этим привилегированным положением. Тогда как центральное положение Солнца в системе Коперника носит совершенно иной характер.
Благодаря такому преобразованию и нашлась такая новая точка зрения, которая позволяла взглянуть на планетную систему и прежде всего на саму Землю как бы со стороны и увидеть их в целом. Новая точка зрения не была связана с каким-либо местом в системе 52 . Можно было «увидеть» много возможных центров во Вселенной, так что движения sursum и deorsum теряли свою уникальность. Можно было «увидеть» Землю в целом (как планету) и найти, что возникновению и уничтожению подвергаются только ее части и т. д. Но по отношению к физическому миру самый главный результат релятивизации места и разрушения «лунной грани» состоял в том, что все факты, очевидности и вещи «повисали в воздухе». Факт-очевидность становится фактом-аргументом, доводом. Возникает ситуация потенциального экспериментирования, так как каждый факт должен оправдать свою видимость перед лицом возможного преобразования. Симпличио уже не просто указывает пальцем на вещи, видимые всеми, он уже даже не приводит свои факты в доказательство своих теорий, он вынужден «спасать» их, т. е. пытаться сконструировать их с помощью теории. И, по существу говоря, единственное, к чему на первый раз стремится Сальвиати, это показать, что с теми предпосылками, которые есть у Симпличио, ему не сконструировать нужный ему объект. Факт, который для Симпличио был целостным феноменом, оказывается лишь частной видимостью, и когда Сальвиати удается поставить Симпличио на свою точку зрения, перед тем открывается новый мир, откуда ему нет пути назад. То, что раньше было для него всем, выступает теперь как субъективно-ограниченное впечатление. Сам предмет стал для него другим.
Читать дальше