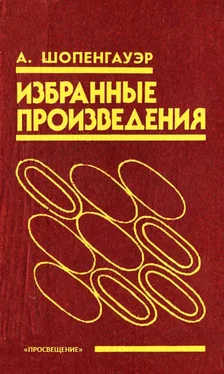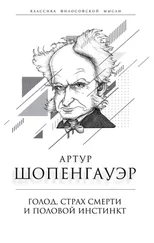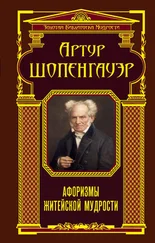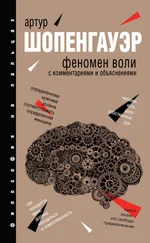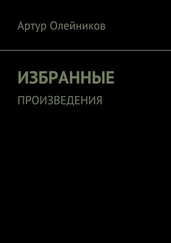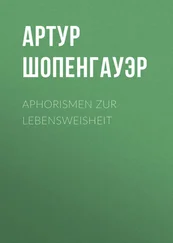Это понятие я разъяснил в приложении к своему конкурсному сочинению о свободе воли.
[На русский эта баллада переведена гр, А. К. Толстым. Прим. Ю. Айхенвальда.]
Если же признавать значение аскезы, то к тем конечным пружинам человеческих действий, которые установлены мною в моем конкурсном сочинении о фундаменте морали, т. е. к 1) собственному благу, 2) чужому горю и 3) чужому благу, надо прибавить еще и четвертую — собственное горе. Я здесь отмечаю это только в интересах систематичности и последовательности. — Тема названного сочинения была предложена в смысле царящей в протестантской Европе философской этики, и оттого я должен был обойти молчанием эту четвертую пружину.
См.: Ф. Г. Г. Виндишман: «Шанкара, или о Ведийских теологических исследованиях», стр. П6, 117 и 121–122; также «Упанишады» [в исследовании Анкетиль дю Перрон], т. I, стр. 340, 356, 360.
«Азиатские исследования», том 6, стр. 474.
Ср. мои «Основные Проблемы этики», стр. 274 (2-е изд., стр. 271).
Св. Бонавентура. «Жизнь Франциска», гл. 8; К. Хазе. «Франциск Ассизский», гл. 10; Кантаты св. Франциска, изд. Шлоссера и Штейнле. Франкфурт-на-Майне, 1842.
Духовное руководство Михаила де Молино: по-испански 1675, по-итальянски 1680, на латинском языке 1687, французское издание не представляет редкости, его название: «Сборник разных работ касательно квиетизма Молино и его последователей». Амст[ердам], 1688.
Матфей 19, II, сл.; Лука 20, 35–37; 1. Коринф. 7, 1—II, 25–40. — (I. Фесс. 4, 3–1. Иоанн. 3, 3); Апокал. 14, 4.
Ср. «Волю в природе», второе изд, стр. 124.
Напр., [Еванг.] от Иоанна, 12, 25 и 31; 12, 30; 15, 18, 19; 16, 33. К Колосс. 2, 20; К Эфес, 21, 1–3. Первое послан. Иоанна. 2, 15–17, и 4, 4,5. При этом можно видеть, как иные протестантские богословы в своих попытках перетолковать текст Нового Завета в духе своего рационалистического, оптимистического и бесконечно плоского мировоззрения заходят так далеко, что в своих переводах этот текст прямо искажают. Так, Г. А. Шот в своей новой версии, присоединенной к гризебаховскому тексту 1805 г., переводит слово «космос» в Евангелии от Иоанна (5, 18, 19) словом «иудеи», в первом послании Иоанна 4, 4 — словами «несведущие люди», а в послании к Колосс. 2, 20 «стихии космоса» он переводит: «иудейские элементы», между тем как Лютер повсюду честно и правильно переводит это словом «мир».
Беллерман. «Исторические известия об ессеях и терапевтах», 1821, стр. 106.
Природа непрестанно совершенствуется, переходя сначала от механических и химических процессов неорганического царства к царству растительному с его тупым самодовольством, а отсюда к царству животному, где начинается интеллектуальная деятельность и сознание; последние от слабых зачатков постепенно идут все выше, чтобы, наконец, сделав еще один и самый большой шаг, подняться до человека, в интеллекте которого, следовательно, природа достигает вершины и цели своей производительной деятельности, т. е. дает совершеннейшее и труднейшее, что только она в силах создать. Но и в пределах человеческого рода интеллект представляет еще много заметных степеней, крайне редко достигая своего высшего, действительно глубокого развития. В таком своем развитии, следовательно, он является, в более узком и строгом смысле, труднейшим и высшим произведением природы, т. е. самым редким и ценным, что может указать мир. Такой интеллект дает наиболее ясное сознание и потому представляет себе мир определеннее и полнее, чем всякий другой. Снабженный им человек обладает поэтому самым благородным и прекрасным на земле и, соответственно тому, имеет для себя такой источник наслаждений, в сравнении с которым все остальные ничтожны, — так что он ничего не требует себе извне, кроме только досуга, чтобы' без помехи наслаждаться этим достоянием и шлифовать свой алмаз. Ибо все остальные, т. е. не интеллектуальные, наслажденья носят более низменный характер: все они сводятся к движениям воли, т. е. к желанию, надежде, страху и достижению, все равно на что бы это ни было направлено, причем дело никогда не может обойтись без огорчений, а к тому же с достижением обычно связано большее или меньшее разочарование, — тогда как при интеллектуальных наслаждениях истина становится все яснее. В царстве интеллекта нет места для скорби: здесь все — познание. Но ведь все интеллектуальные наслаждения доступны человеку лишь через посредство и, стало быть, по мере собственной интеллектуальности: ибо сколько бы ума ни было на свете, он бесполезен тому, у кого его нет. Реальная же невыгода, сопряженная с этим преимуществом, заключается в том, что во всей природе вместе с интеллектуальностью растет также и способность к страданию, которая тоже, следовательно, лишь здесь достигает своей высшей точки.
Читать дальше