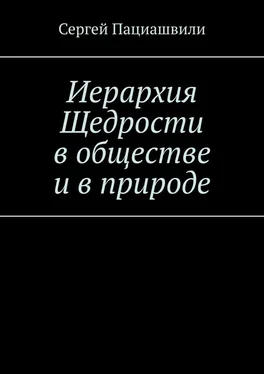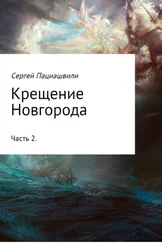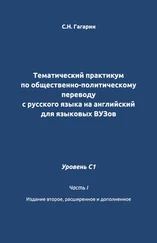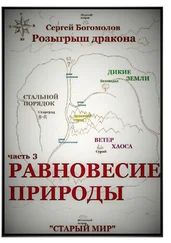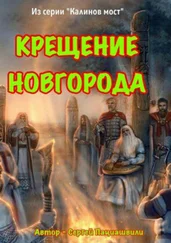После Второй Мировой войны мир внезапно вдруг перестал слишком серьёзном относиться к вопросам в морали в экономике. В экономику вернулась щедрость, хоть и в мнимой форме, как своего рода займ настоящего у будущего. В финансах это означает печать чрезмерно большого количества денежных банкнот, которые идут на высокие пособия, льготы малому бизнесу и зарплаты на общественных работах. В будущем этот займ должен окупить себя за счёт того, что получившие на руки деньги люди пойдут покупать продукты производства, что будет стимулировать производителя делать больше и лучше. То есть, это не совсем щедрость, это отложенная во времени купля-продажа. Но на каком-то этапе и в каких-то местах это выглядит вполне как щедрость, которая никак не вредит экономике и не подрывает устои общества. Глобально за этой щедростью, за этим настоящим стоит некоторое предполагаемое прошлое, в котором предполагается тотальное господство дефицита. Если от будущего ожидается всегда изобилие, что всегда будет возможность окупить сделанный в настоящем займ и произвести столько товаров, сколько напечатано денег, то на прошлое, в противовес этому, накладывается презумпция дефицитности. А, поскольку настоящее в каждый момент превращается в прошлое, то можно сказать, что настоящее поглощается некоей пучиной дефицита, буквально каждую секунду становясь чем-то иным, чем было секунду назад, когда ещё было настоящим. Собственная история становится предметом клеветы и очернения, предки превращаются в скупцов, и постепенно формируется культура отмены.
Для торговли это означает переход к новому типу транзакций, где вместо независимых сверхбогатых торговлей на импорт и экспорт занимаются международные организации и корпорации. Переход этот можно рассматривать, как естественную эволюции фритредерства, в этом отношении социализм действительно является следующей стадией после «капитализма». Тем не менее, переход затянулся, и именно поэтому стала возможна щедрость, когда международной торговлей одновременно занимаются сверхбогатые и учреждения, типа Всемирного банка и МВФ, в уставе которой в качества уставной цели указано: борьба с бедностью. Но поскольку это переходный этап, то рано или поздно он должен чем-нибудь закончится: либо переходом в социализм, где большая торговля идёт только через специальные учреждения и корпорации, либо возвращением в новом качестве торговых пошлин. В первом случае технологии должны полностью заменить человека в международной торговле. Информационные технологии позволяют заключать сделки акторам, разнесённым в пространстве на многие тысячи километров, а технологии логистики максимально упрощают международную торговлю. В таких условиях нужда в сверхбогатых напрочь отпадает. Вообще, нужно сказать, что двигателем технического прогресса в Новое время было именно это стремление упразднить границы и торговые барьеры между странами. На первом этапе фритредерства это достигалось в основном за счёт индустриального производства. Да, технологии, конечно, облегчают жизнь человека, но многие из тех изобретений, что стали применяться в быту, изначально создавались для облегчения торговли. На втором этапе фритредерства значительную роль начинают играть информационные технологии.
Тем не менее, продолжает ещё жить предрассудок, согласно которому монополии всегда возникают в результате злого умысла при скрытом участии государства. Считается, что монополии никак не возникают естественным путём, а борьба против монополий ведётся при помощи передовых технологий, отчего эти технологии принимают форму адаптации к условиям дефицита. Техника сама по себе представляет собой некоторое видоизменение окружающей среды, условный механизм адаптации, поскольку технические устройства в значительной степени специализированы и приспособлены под отдельные функции. Но адаптация – это не всегда адаптация к условиям дефицита. В свою очередь монополист, имеющий злой умысел, создаёт дефицит, из которого извлекает выгоду для своей компании. Если бороться против монополий посредством технологий, то получается, что мы как бы создаём механизмы адаптации к этому дефициту, которые позволяют нам обходиться без услуг монополиста, в силу чего он в конечном итоге будет разорён. Проблема возникает тогда, когда эти механизмы используются не против реальных, а против мнимых или потенциальных монополий. Ситуация переходит в абсурд, когда проблема бедности решена, голода нет, но акторы всё равно должны делать вид, будто существует какой-то дефицит, к которому они должны адаптироваться. В любом насилии, в любой идеологии видится уже призрак формируемой монополии, и все силы бросаются на борьбу с этими призрачными угрозами, что в конечном итоге напоминает спектакль. Мы должны сделать вид, что дефицит уже случился и адаптироваться к нему, мы должны поверить, что технологии и только они способны нас спасти. Это массовая истерия, которая прорывается то здесь, то там, и выражается в крайне неадекватных реакциях на происходящие в мире события. Хотя очевидно, что вовсе не технологиям люди обязаны исчезновением дефицита, а роскоши, причём совершенно безнравственной, с насилием, какими-то идеологиями, эстетикой и прочим.
Читать дальше