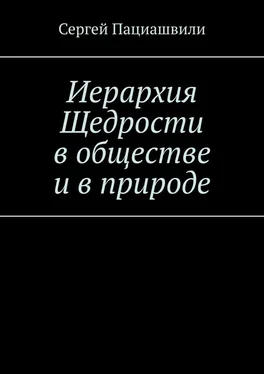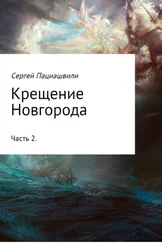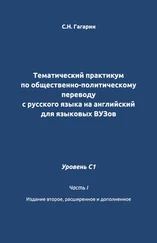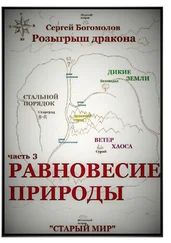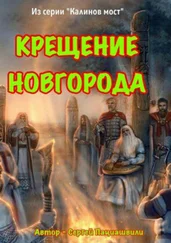1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 К слову, наличие идеологии вовсе не означает тоталитаризма и тирании. Идеология – это некоторые догматические правила, по которым заключаются сделки и исполняются условия договоров. Конечно, хорошо, когда сделки соблюдаются без всякой идеологии, исключительно из щедрости заключающих договор акторов, но если это невозможно, то именно идеология порождает того нотариуса, который позволяет заключать сделки. В средние века, например, такими нотариусами выступали не зависящие от государства служители христианской церкви, и поныне ещё они могут регистрировать заключение брака, хоть это уже и не имеет юридической силы. И совсем другую ситуацию мы имеем с фашистскими и прочими популистскими автократическими режимами 20-го века. Здесь неоткуда было взяться нотариусу, независимому от государства, значит, и идеологии не было. Вождизм – это не идеология, а фигура вождя, означающая отсутствие правил для заключения сделок. Условия любой сделки могут в любой момент быть изменены в одностороннем порядке, если государство сочтёт это нужным. У фашистов не было внятной политической программы, прошло много лет после того, как Муссолини пришёл к власти, когда он, наконец, решил создать доктрину фашизма и прояснить всем: что же такое фашизм? Да и то, получилось не очень хорошо, хотя очевидно, что со временем фашизм мог бы стать идеологией со строгим соблюдением сделок и договоров, как стал в своё время большевизм. Большевизм тоже на начальном этапе не был никакой идеологией, это был чистый вождизм, помешанный на левом популизме. На левом, значит, на пацифистском. Фашизм – это правый популизм, стало быть, он был связан с милитаризмом. Но как большевистская пропаганда мира не означала отсутствие агрессии, так и фашистская пропаганда войны не означала того, что эта война однажды обязательно будет развязана. Форма популизма – это лишь переменная, связанная со способом, каким вождь приходит к власти. Фашисты пришли на волне военного реваншизма, большевики – на волне борьбы за мир. До сих пор ещё жива выдумка о том, что широкие народные массы поддержали большевиков из-за их пацифизма, что и обеспечило им приход к власти. Согласно этой выдумке, фронт была развален, поскольку никто не хотел воевать. По факту, именно большевики и развалили фронт, когда приняли, а затем издали приказ Петросовета №1. Они использовали пацифизм для борьбы против политических оппонентов, то есть, против действующих властей, фашизм, напротив, использовали против действующих властей милитаризм и тоже лгали о том, что немцы, якобы, в большинстве своём хотели военного реванша. Большевики были единственноый партией, которая выступала за немедленное прекращение войны, она была в оппозиции к остальным, фашисты или нацисты были единственной партией в своей стране, которая выступала за войну. А вот когда несколько вождей большевиков сменились, тогда большевизм стал превращаться в какую-то идеологию, в которую начинали верить даже власти, включая вождей. Договора стали соблюдаться с точностью, условия сделок всё реже изменялись в одностороннем порядке. И всё равно, нотариус был служащим государства, а не церкви, поэтому государство в любой момент могло отказаться от идеологии и пересмотреть свои основы, что оно в конечном итоге и начало делать, и только распад страны уберёг некоторые её части от подобных трансформаций.
Отрицание любой идеологии должно либо возвратить нас к всесторонней легитимации роскоши во всех её безнравственных проявлениях, и тогда сделки будут соблюдаться из великодушия, либо к тому, что гарантом соблюдения сделок станут технологии, которые будут ставить акторов в такие условия, что они просто не смогут нарушить условия договора. Во втором случае за крупные транзакции будет отвечать узкий класс специалистов, которому хватит ума, опыта и усидчивости освоить все эти сложные технологии. Все остальные, не способные освоить эти технологии, фактически будут отрезаны от международного общения, что фактически ведёт к коллапсу при первом же серьёзном экономическом кризисе. А значит, второй путь вовсе не следует рассматривать всерьёз, он существует лишь в пределе, как возможность. По факту же постиндустриальная экономика в том или ином виде обречена возвращаться к торговым пошлинам: либо в виде экономических санкций, которые США и Евросоюз накладывают не те страны, которых считают неблагонадёжными; либо в виде возрождённого абсолютизма; либо в виде более древней, первобытной роскоши. Первые две модели торговых ограничений против монополий борются посредством технологий, то есть посредством дефицитных адаптаций. Они предполагают, что дефицит является естественным состоянием общества, которое предшествует формированию монополий. Любой монополист в их глазах – это по определению вредитель, который манипулирует дефицитом. Следовательно, побороть монополиста можно, только если лучше адаптироваться к дефициту, чем он. Такие модели нуждаются в классе специалистов, которые будут при помощи технологий профессионально адаптироваться к дефициту даже там, где его нет. Биологически это приводит к патологической зависимости от внешней среды. У монополиста тоже предполагается такая зависимость, но он, как мы показали выше, может быть детерминирован внешней средой, а может быть вовсе ей не детерминирован, а, наоборот, использовать среду. А вот те, кто своей профессией сделали борьбу против монополий, обязаны адаптироваться к дефициту и тем самым претерпевать серьёзные физиологические трансформации.
Читать дальше