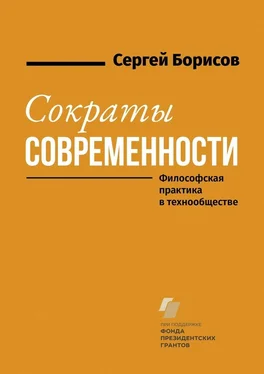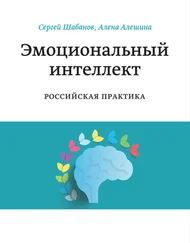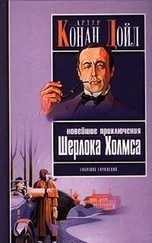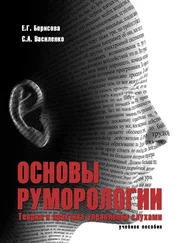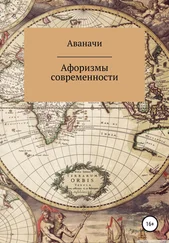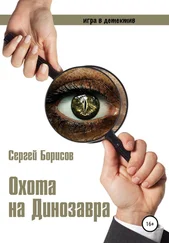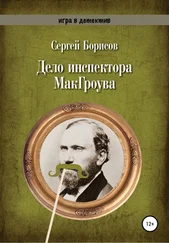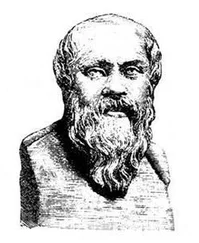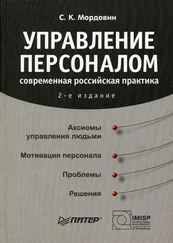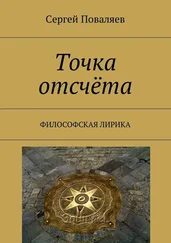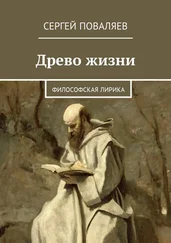Что же может быть содержанием философского мышления? Не мысль сама по себе, а я как мыслящий . Если я любуюсь философской мыслью как какой-то красивой вещью, я не разделяю ее в полной мере, более того, я ее могу совсем не разделять. Я нахожусь с ней в отношении «Я-Оно», поэтому я не вижу ее новизны, наоборот, мое критичное отношение к ней даёт мне право судить о ней с позиции соответствия или несоответствия тем или иным мыслительным шаблонам, по которым выстраивается привычная для меня картина мира, обусловленная логикой привычных для меня суждений. Быть всецело вовлеченным в мысль означает осознавать себя мыслящим, когда я и моя мысль составляют единое целое. По словам Мартина Хайдеггера, «вопрос о сущности истины находит ответ в утверждении: сущность истины есть истина сущности ». 9 9 Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. 1989. №4. С. 103.
В этом «Я-Ты» отношении я выхожу за пределы (go beyond, transcend) своих привычных шаблонов реальности. Подлинно философская мысль – это всегда «мысль впервые», то есть умение помыслить ранее мной немыслимое и, если повезет, найти для этого нового понимания подходящие глубокие слова. Поэтому истинно философствующий всегда говорит от первого лица, говорит открыто и правдиво ( παρρησία ). Полной гарантией παρρησία является собственное присутствие субъекта. Правда того, что он говорит, должна обнаруживаться в его поведении и образе жизни. Говорить то, что думаешь, думать то, что говоришь, вести себя так, чтобы слова не расходились с поступками, – это своего рода добровольное обязательство, которое лежит в основе действия, которое постепенно объединяет говорящего субъекта с истиной им формулируемой. 10 10 Фуко М. Герменевтика субъекта: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1981—1982 учебном году. СПб.: Наука, 2007. С. 397—398.
Моим проводником в философию является философский текст , наполненный глубокими смыслами. Ведь все эти тексты, которые хранит философская традиция, писались не для того, чтобы их изучали в школе и пересказывали как заученные стихи. Текст данный в своей фактичности не более чем культурный артефакт, интерпретация которого обусловлена той или иной историко-культурной традицией или научной парадигмой. Данная интерпретация пронизана герменевтикой недоверия (автору и читателю), поэтому она не видит в тексте ничего нового. Эта интерпретация характеризуется безликостью, отстраненностью, объективацией. Философский текст открывает философское содержание только в своей онтологии. Для этого необходимо мое личное присутствие в тексте, резонанс с его идеями, пробуждающий мое собственное мышление, мои ответные идеи. Здесь речь идет о герменевтике доверия. При этом я могу и не разделять идеи автора, но я отдаю ему должное и благодарен ему за те новые мысли, новое понимание которые пробуждает во мне этот текст.
Издревле философия рассматривалась как условие духовного здоровья , поскольку истина не может существовать без преобразования субъекта, а это преобразование в свою очередь осуществляется движением любви и движением аскезы, т.е. работой над собой, заботой о себе ( επιμέλεια έαυτου ), активностью, что, собственно, и позволяет обрести способность постигать истину. Невежество же есть не просто мое незнание (как раз осознавать свое незнание – это признак, если не мудрости, то хотя бы любви и уважения к ней), невежество есть мое упорное нежелание открыться истине, страх прямо и открыто глядеть ей в лицо, в чем и проявляется мое нездоровье. Как писал Блаженный Августин в «Исповеди»: «И так как они не хотят обманываться, то и не хотят, чтобы их изобличили в том, что они обманываются. Итак, они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной. Они любят ее свет и ненавидят ее укоры. Не желая обмануться и желая обманывать, они любят ее, когда она показывается сама, и ненавидят, когда она показывает их самих». 11 11 Августин Аврелий. Исповедь. Абеляр П. История моих бедствий. М.: Республика, 1992. С. 144.
Симптомами этой болезни является подверженность влияниям извне, абсолютная объективация чувств и представлений, где внутренняя жизнь субъекта всецело определяется внешними воздействиями. Невежественный человек «болен временем» (это весьма распространенный недуг, когда реальное время нашей жизни не берётся в расчет, а замещается на некую объективируемую абстракцию, наделяемую статусом реальности). Невежественный человек разбросан во времени между случайным увлечением и бездельем, когда жизнь пущена на самотек, а воля не направлена ни к какой цели. Вследствие этого невежественный человек не способен хотеть, точнее, он не знает, чего он хочет. Он не может разглядеть свои желания, погребенные под шелухой навязчивых потребностей, потребностей, навязанных извне либо природой, либо культурой. Его воля несвободна, она не изъявляет свои желания как проявления активности, творчества, новизны. Подавленная воля «выводит» одну и ту же нудную мелодию неспособности, нехватки, обреченности – унылую песнь небытия. Но свободно хотеть – значит в действительности не зависеть ни от какого представления, события или склонности. То, что человек жаждет всегда, хочет абсолютно и свободно – это самого себя. Невежественный человек не жаждет самого себя, он не хочет быть собой, он привык всю жизнь играть роль кого-то другого. Момент пробуждения наступает тогда, когда от самодовольства от сыгранной роли, даже если эта роль сыграна замечательно, человек начинает обращать внимание на одно поначалу смутное, но потом все более отчетливое желание, – желание быть собой, а не кем-то другим. Пробудившись, он начинает смертельно тосковать по себе настоящему и постепенно из этой тоски формируется его осознанное раскрепощенное желание.
Читать дальше