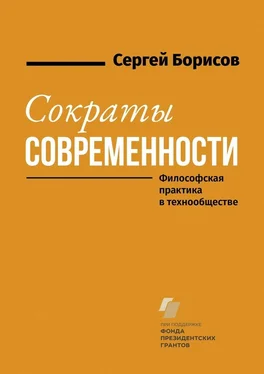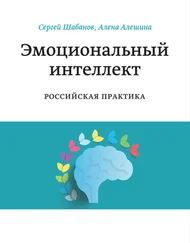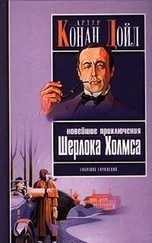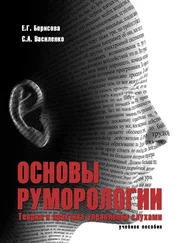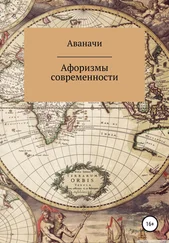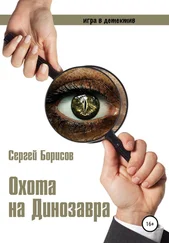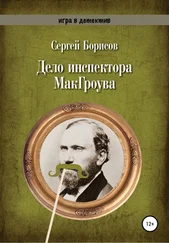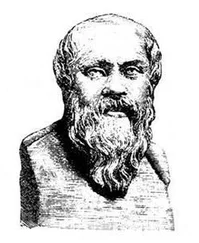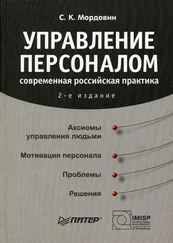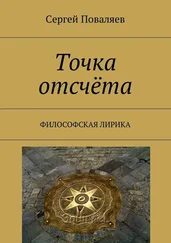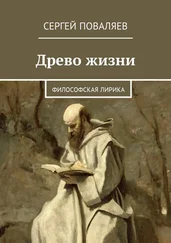Допустим, дальше на семинарских занятиях преподаватель организует погружение в философскую традицию посредством приобщения студентов к текстам тех или иных значимых философских произведений. По какому принципу будет осуществляться подбор текстов? Было бы наивно ожидать, что критериями подбора будут те мировоззренческие проблемы, которые возникли в душе слушателей, воодушевленных лекционным курсом. Философская традиция как «история философии» имеет свой предмет, а именно эту самую историю. Следовательно, к нашей первой неизвестной x (что осталось в голове у слушателей лекций и, вообще, поняли ли они что-нибудь) добавляется вторая неизвестная y (насколько соответствует история философской традиции, отраженная в хрестоматийных философских текстах, истории личностного развития читателей этих текстов). Смею предположить, что неясность этих х и у в преподавании философии делает это преподавание совершенно бесполезным для большинства слушателей университетских философских курсов.
Как в идеальном плане могло бы обстоять дело? Например, будем руководствоваться простым принципом, что в деле приобщения к философской традиции, как в шахматной игре, «белыми» будет играть не преподаватель, а студент. То есть не преподаватель, а студент будет обладать инициативой и делать первый ход в виде его собственных, частных мировоззренческих проблем и жизненных вопросов, которые волнуют его лично. Задачей же философа-преподавателя будет «вывести» эти проблемы на философский уровень, с тем, чтобы показать, как можно работать с ними в сфере абстрактного, для того, чтобы понять смысл и суть того конкретного, что волнует студента «по жизни». Осуществив такую работу, преподаватель поможет студенту занять философскую позицию по отношению к своей мировоззренческой проблеме, которая, возможно, и послужит моментом ее диалектического снятия, откроет для него новую жизненную перспективу и, несомненно, станет значимым моментом приобщения к философской традиции. И вот здесь философские тексты окажутся очень кстати, поскольку дадут прекрасные образцы «законченных» (глубоко промысленных) идей и исполнят роль своеобразных зеркал, отражаясь в которых, «незаконченные» идеи студента обретут свое завершение.
Здесь мной обозначен главный принцип, в соответствии с которым философская традиция может служить ее неофитам, открывать для них возможность философского образа жизни. Однако может возникнуть вопрос: а являются ли сами преподаватели философии носителями подлинной философской культуры, или, иными словами, ведут ли они философский образ жизни, чтобы их слово не расходилось с делом? Не думаю, что кого-либо удивит мое заявление о том, что у нас есть много преподавателей философии, но далеко не все из них философы (в смысле образа жизни). Как это понять? Очень просто, большинство преподавателей только рассказывают о философии и демонстрируют свое понимание философской традиции в рамках ее истории («объективировано» и отстраненно), занимаются «схоластической дрессурой», вовсе не практикуя философский образ жизни в общении со студентами. Поэтому, преподаватели философии больше заняты информированием о философской традиции, а не формированием способов приобщения к ней.
Конечно, у читателей могут возникнуть вопросы практического плана, связанные с тем, что, если допустить мой «главный принцип» в качестве некой парадигмы в преподавании философии, то, как его можно осуществлять в условиях командно-бюрократической и стандартно-регламентированной системы университетского образования? Охотно поделюсь своими соображениями по этому поводу.
Во-первых, предметная регламентация – это миф, который прочно засел в головах преподавателей и никак не может подняться до уровня рефлексии. Прочность этого мифа во многом связана со скрытым сопротивлением, со страхом перед тем, что «все течет, все меняется». Привычки, выработанные годами, создают иллюзию стабильности в сфере образовательных практик. Преподаватель-предметник потому-то так упорно держится за свой предмет, гипостазирует его, что ему трудно расстаться со своими привычками. Однако скрывая от себя и других этот страх нового, страх пред изменениями, не имея психологических сил быть semper idem , он утверждает, что якобы сама эта предметная регламентация сдерживает его творчество и инициативу. Якобы эти требования предметности навязаны ему извне образовательными стандартами или какими-то странными (большей частью выдуманными им самим) административными указаниями и т. д.
Читать дальше