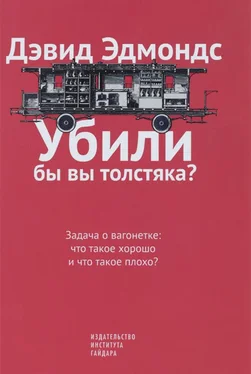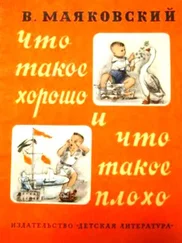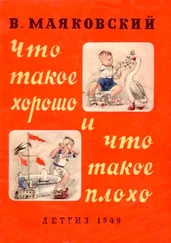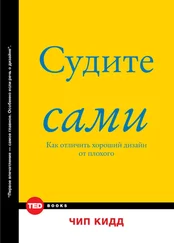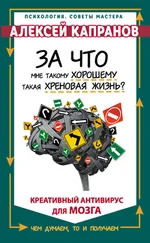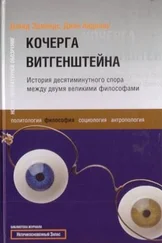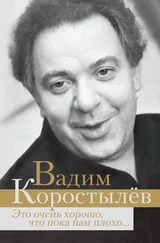Именно этой картинкой объясняется эмблема нового движения. Его название могла бы придумать какая-нибудь пиар-фирма — оно называется «икс-фи» (x-phi), то есть «экспериментальная философия» или философия с эмпирическим прицелом. В последние годы икс-фи стала темой множества блогов, периодических изданий и книг, а ее активисты получили немало щедрых исследовательских грантов.
Критики сетуют на то, что экспериментам, проводимым под маркой икс-фи, не хватает научной строгости и что они вообще не должны считаться философией. «В экспериментальной философии неприятно то, что она похожа на христианскую науку, которая и не наука, и не христианская», — вот что говорит один из ее обличителей [122] Барри Смит, интервью в программе BBC Analysis, 28 июня 2009.
. К подобным опасениям мы еще вернемся. Тем не менее насколько философское движение вообще может быть модным, икс-фи в настоящее время — это последний писк моды.
По меньшей мере с работ философа конца XIX — начала XX века Готлоба Фреге портрет кабинетного философа в какой-то мере подкреплялся реальным положением вещей. Фреге считал философию дисциплиной, для которой достаточно инструментов логики и понятийного анализа. В этом смысле ею можно заниматься, не вставая с кресла, поскольку она отличается и от химии с ее бунзеновскими горелками, и от истории, которая живет архивами, и от социологии, опирающейся на опросы.
Философия не всегда была такой. Отдельной дисциплиной она стала относительно недавно, причем на разных этапах истории философы использовали открытия эмпирических наук. Некоторые философы проводили даже собственные эксперименты — например, Аристотель, первопроходец классификаций, провел вскрытие множества животных, от ракообразных до каракатиц [123] Отметим, что у основополагающей работы Давида Юма «Трактат о человеческой природе» есть подзаголовок: «Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам».
. Движение икс-фи намеревается вернуться к прежним временем, когда у философии было более широкое представление о самой себе и когда она не отгораживалась от других дисциплин. Как говорит один из лидеров движения икс-фи, экспериментальная философия — «это в большей мере ретродвижение, попытка вернуться к тому, чем философия традиционно являлась» [124] Джошуа Кнобе, интервью сайту Philosophy Bites (www.phi‑losophybites.com).
.
Хотя икс-фи в значительной мере опиралась на работы по социальной психологии, до недавнего времени она использовала другую методологию — деконструкцию повседневных интуиций за счет опросов. Сталкиваясь с реальными или воображаемыми обстоятельствами, философы без зазрения совести заявляют, что их реакция должна быть общей реакций всех благоразумных людей на свете. «Все мы можем согласиться с тем…», — так они обычно говорят. Типичный пример можно найти у Джудит Джарвис Томсон. Представим, что в больнице пять человек оказались в опасной ситуации — им грозит не болезнь, а потолок в палате, который вот-вот на них обрушится. Мы можем предотвратить эту возможную катастрофу, включив насос механизма, поддерживающего потолок, но это неизбежно приведет к выбросу смертоносных газов в палату шестого пациента. Она пишет, что « очевидно , мы не должны так поступать» [125] Thomson J. J. Rights, Restitution, and Risk. P. 107 (курсив мой. — Д. Э.).
. Однако икс-фи поставила под вопрос эту вроде бы очевидную посылку. Действительно ли интуиции, высказываемые в оксфордских колледжах Сомервилля и Св. Анны, разделяют жители Нэшвилла или Санкт-Петербурга?
Есть много областей философии, где межкультурная социология интуиций возрождает стародавние вопросы, и не только в этике. Рассмотрим отношение между знанием и мнением: когда обо мне можно сказать, что я нечто знаю , а не просто считаю ? Раньше стандартный ответ состоял в том, что я нечто знаю, когда у меня есть обоснованное истинное убеждение, а это обоснованное истинное убеждение у меня есть тогда, когда выполнены три следующих условия: (а) я действительно разделяю это убеждение; (б) оно истинно и (в) у меня есть достаточные основания считать, что оно истинно. Рассмотрим пример. Действительно ли я знаю, что впереди человек, привязанный к рельсам? Если там действительно есть человек, привязанный к рельсам, если я смотрю и вижу этого человека на рельсах, тогда, конечно, можно сказать, что я знаю , что к рельсам привязан человек.
Однако в 1963 году американский философ Эдмунд Л. Гетье III, работавший тогда в университете Уэйн-Стэйт в Детройте, придумал некоторые проблемные случаи. До этого Гетье ни разу не публиковался, и университетское начальство давило на него, требуя, чтобы он представил какую-нибудь научную работу. Он нехотя написал трехстраничную статью «Является ли знанием обоснованное истинное убеждение?». Сам он относился к ней прохладно. «До самого последнего момента, когда надо было принять решение, я никогда и не думал о том, что предложу на публикацию философскую статью, состоящую всего лишь из одного контрпримера». И после этого он не опубликовал ни слова, поскольку, как он сам говорил, «Мне больше нечего сказать» [126] Из переписки по электронной почте с автором.
. Однако его короткая статья стала одной из наиболее влиятельных в современной философии.
Читать дальше