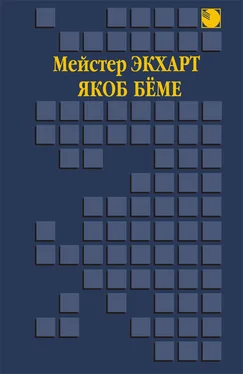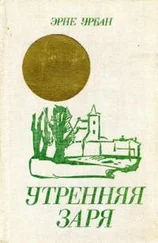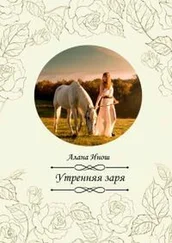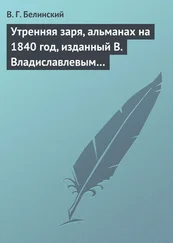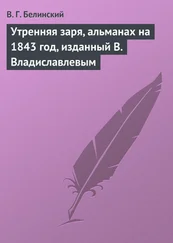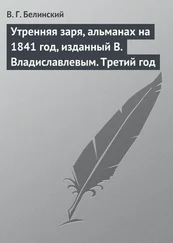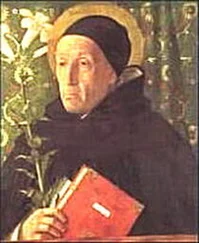Экхарт родился в Тюрингии в 1260 году.
Это было время перелома в жизни христианства. С одной стороны ключи древнего ясновидения были как бы окончательно запечатлены, и на окаменевших преданиях воздвиглось и укрепилось здание схоластической мысли, с другой — в людях проснулась надежда на новое откровение, жажда непосредственного проявления духа Христова, как силы живой и неизменно творческой в мире. Экхарт начинает новую эру религиозной жизни. Он старается освободить души от всего застывающего, условного. Он призывает людей раскрыть сердца духовному миру, не искать "Живого между умершими".
Экхарт происходил из рыцарского рода Хохгеймов. Рыцарство его сказалось во всем духе его учения, в образах его речи. "Добрый рыцарь не жалуется на свои раны, взирая на короля, который ранен вместе с ним", говорит он о мужестве, с которым надо переносить страдания, разделяя их со Христом. И дальше о страдании: "Я знал одного князя, который, когда принимал кого-нибудь в свою свиту, высылал его ночью и ехал сам ему навстречу и сражался с ним. И случилось ему раз чуть-чуть не быть убитому тем, кого он хотел испытать. И с той поры ценил и любил он того слугу особенно". Таким рыцарем у Бога был Мейстер Экхарт. Богоборец и сын, он знал и проповедовал Новый Завет с Богом, основанный на свободе. Смелость его не походит на дерзость вольноотпущенника и раба.
Область духа, где человек причастен Творцу, где "он видит себя самого тем, кто создал вот этого человека", называет Экхарт неприступным замком души. В те времена строй земной жизни больше, чем теперь, был отражением строя духовного. Формы больше соответствовали сущностям. Все было символом. И рожденный рыцарем Мейстер Экхарт, покинув все мирское, оставался рыцарем в духе. Его мужественный, ратный дух владел словом, как мечом.
Лучшие люди того времени видели в святом Франциске Ассизском и в святом Доминике Божьих посланцев, которые пришли в мир, чтобы собрать заблудившийся христианский народ и вернуть ему Бога. Оба ордена действовали с изумительным самоотречением и вдохновением. Доминиканцы дали лучшие школы и лучших теологов того века. В романских странах их рвение было направлено главным образом на развитие схоластики, прославление господствующей церкви и на борьбу с еретиками; в странах германских, где пробуждался дух юного, полного творческих сил народа,— рвение это выразилось иным образом: в подвиге сокровенном. Нарождались мистика и углубленное христианское учение, творцы которого вскоре сами были признаны инквизицией за еретиков.
Надо думать, что Экхарт поступил в Эрфуртский Доминиканский Орден уже лет пятнадцати, где после двух подготовительных лет он три года проходил так называемое Studium logicale: грамматику, риторику и диалектику; затем два года Studium naturale: арифметику, математику, астрономию и музыку. После этого начиналось изучение теологии, которое продолжалось три года; первый год был посвящен Studium biblicum, два последние — догматике; они назывались Studium provinciale. Во времена Экхарта в Германии существовала лишь одна такая школа в Страсбурге. Духовное образование для большинства этим и заканчивалось. Они принимали священнический сан и начинали свое служение. Тех же, которые отличались особым дарованием и могли стать хорошими проповедниками, посылали в высшую школу Ордена. В то время таких школ было пять. Первое место после Парижской занимала Кёльнская, и там пробыл Экхарт три года. Там прошел он круг идей великих схоластов — Альберта Великого и ученика его Фомы Аквинского.
В девяностых годах Экхарт занимает должность приора Эрфурта и викария Тюрингии.
В продолжение всей свой жизни он постоянно занимает ответственные должности в церковном управлении, что свидетельствует о ясном взгляде на жизнь, о способностях в практической деятельности великого мистика.
К тому времени относятся его "речи о различиях", свободный род поучения во время трапезы монахов. В этой самой ранней из дошедших до нас проповедей выражается уже главная мысль Экхарта о нищете духом, которую он понимал шире и духовнее, чем религиозные люди его времени, последователи Франциска Ассизского. Экхарт далек от той наивности и от того порою мелочного, душного, буквального разумения вещей, которое было свойственно людям средневековья. Все застывающее хоть на секунду в формуле стремится разбить его живой дух. И нищету понимает он как полное совлечение с себя всего отъединенного, отдание своего "я", уничтожение его в слиянии с единой, центральной мировой волей. Он говорит в этой проповеди об отличии вещей существенных от несущественных, и замечательно тут его свободное, идущее вразрез с настроением того времени отношение ко всяким сверхъестественным явлениям и видениям, которые часто тогда проявлялись в охваченном религиозным движением народе и занимали умы. "Это хорошо,— говорит он,— и все же это не самое лучшее; даже тогда, когда это не воображение, а истинное переживание, вызванное истинной любовью к Богу; все же это не высочайшее ее проявление".
Читать дальше