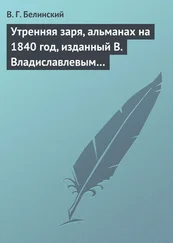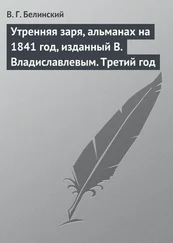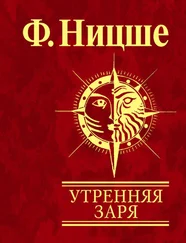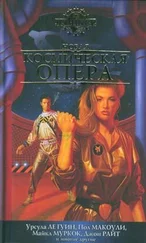Дул теплый пьянящий ветер, принося запах цветущего терновника и пыльцу вербы.
Одновременно он принес запахи воды, смолы, стружек и человеческого пота — на Рабе строили мост, мост для нужд армии; строили его жители пяти сел и целый инженерный полк Советской Армии. Люди суетились, тяжело дышали от натуги, обливались потом, кричали возле дамбы. И над стремительной водой, остервенело бьющей в развалины старого моста, в сваи и плоты, то и дело звучали два слова:
«Эт ноп!»
В переводе с венгерского они означали: пять дней. Это был общий лозунг для строителей. Это был строго назначенный им срок.
Такими словами третьего дня в шесть часов утра напутствовал отправляющихся на работу военный инженер, коренастый, выбритый до синевы, с темными усами, — советский полковник.
Он стоял недалеко от моста, на крыше домика путевого обходчика.
Он стоял повернувшись лицом к солнцу, как раз напротив толпы ни живых ни мертвых местных жителей, боящихся, что их могут насильно увезти из родных мест.
— Эт ноп! — выкрикнул полковник резким, пронзительным голосом, словно отдавал приказ, и показал рукой на дамбу, на завалившийся в реку взорванный железнодорожный мост, на скрюченные рельсы. Потом он говорил что-то о Гитлере, о немцах, о Берлине, а в конце своей короткой речи снова произнес по-венгерски: — Эт ноп, мадьяр! Иртем? [1] Пять дней, венгры! Понятно? (иск. венг.)
Люди понимали это и без переводчика, но только не очень верили в такую возможность.
Пять дней, вот еще! Разве это срок?! Да сам господь бог не построит мост за пять коротких дней! А тут нужно выстроить прочный деревянный мост, по которому будут ходить поезда, который не провалится под тяжестью танков, пушек, машин с боеприпасами, бронепоездов.
А кроме того, еще нужно возвести насыпь, а затем уложить на ней шпалы и рельсы. Насыпь должна полого, с небольшим уклоном спускаться к реке, так чтобы паровоз смог осторожно выкатиться на новый мост, если, скажем, произойдет чудо и этот мост для русской армии все же будет построен.
Когда-нибудь его, конечно, построят, но только никак не за пять дней.
Стояла тишина — тягостное молчание неверящих, отводящих глаза людей.
Ветер доносил гул артиллерийской канонады со стороны Кесега, Сомбатхея и Сентготхарда.
Там бушевали, бои, продолжавшиеся несколько дней подряд.
У подножия Австрийских Альп смертельно раненная, в последний раз показывающая свой звериный оскал гитлеровская армия пыталась судорожно изменить обстановку и на скорую руку создать новую оборонительную линию.
Лишь немногие из гитлеровцев понимали, что им пришел конец, что, как загнанных волков, их все равно ждет уничтожение, даже если они и смогут остановиться, повернуться и броситься на преследователей.
Большинство же — второпях собранная здесь толпа потерявших индивидуальность людей, — хотя и видело паническое, беспорядочное бегство нацистов и нилашистов, слишком боялось думать и тем более становиться на чью-либо сторону.
Вот они и молчали, упрямые, безразличные. Молчали в ожидании побоев, ругани, стрельбы…
Инженер-полковник, стоя на крыше сторожки, немного выждал, однако, к удивлению собравшихся, не рассвирепел, не закричал, не начал размахивать кулаками. Вместо этого он как-то мило, по-человечески почесал макушку и сказал:
— Ну? Нем иртем? Эт ноп! [2] Не понятно? Пять дней! (иск. венг.)
И он показал на пальцах: речь-то, мол, идет всего-навсего о пяти днях, а потом можете отправляться куда хотите, вы нам больше не нужны, будьте здоровы, венгры.
Равнодушное, ко всему безразличное людское скопище, которое, казалось, бралось за эту задачу только по принуждению, наконец подало признаки жизни.
— Пять дней! Ого! — прозвучал чей-то грубый, нахальный, вызывающий голос. — Послушай, русский, а чем платить будешь?
Толпа зашумела.
Чего только не было в этом неразборчивом, громком, как ураган, вздохе? Ругань, хохот, злорадство, недовольство!
Были в нем и страх, и боязнь наказания. От всего этого плотная толпа, ряды которой тесно переплелись, начала волноваться, как море.
Вокруг, возле рощи и прибрежного кустарника, поблескивали штыки.
Читать дальше