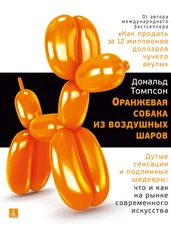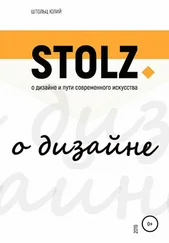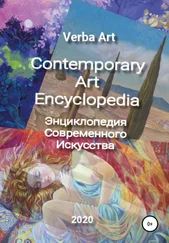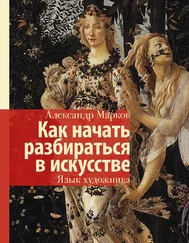У Эко немало других интереснейших книг, например, «История иллюзий» (2002, рус. пер. 2013). Слово «иллюзия», взятое заглавием книги в русском переводе (в оригинале она называется «О привидениях и прочих байках»), не должно сбивать с толку: речь идет не об оптических иллюзиях, но и не об идеологических заблуждениях. Скорее, об «иллюзии» здесь говорится как о «площадном розыгрыше»: как если на рынке кто-то крикнет, что летит ворона, то все посмотрят на небо. Так и здесь, оказывалось, что объявить о существовании райских земель, неведомых континентов, загадочных стран и народов — это и был тот площадной вызов, который заставлял всех внимательно всматриваться в горизонты собственного существования.
Это и было некогда зрелище, которого ждут одновременно как развлечения и как новости, не устаревающей даже на следующий день. Сами «иллюзии», например, вера в существование страны, в которой всё наоборот, переводила разговор о мире из морального регистра в политический. Мир наоборот был своеобразным миром, в котором политические возможности стали политической действительностью, в котором могут сочетаться не только справедливое и несправедливое, но и мыслимое и немыслимое. В этих иллюзиях всегда проскальзывает новость о постоянном крахе готовых политических решений перед мощью речи.
Вообще, итальянская мысль о современном искусстве очень интересна. Например, таков Джанни Ваттимо, создатель «бедной мысли», соответствующей такому возникшему в Италии направлению современного искусства, как «бедное искусство» (arte povera). Ваттимо много общался с Ричардом Рорти и, как и он, настаивает на том, что не просто при разговоре о современном искусстве интерпретация предшествует анализу, но что интерпретация и есть сама наша современность. Ваттимо говорит, что наша эпоха стала эпохой настоящего христианства, «бедного», соответствующего духу Евангелия, в котором не буква, не грамматическое значение определяет смысл, а готовность причаститься Христу, который доказывает, что свободная интерпретация правил может вполне оказаться непротиворечивой.
Например, мы никогда не можем сказать, какие именно механизмы и представления действовали при непорочном зачатии или воскресении из мертвых. Для атеиста это будут просто фантазии, иначе говоря, определенные механизмы порождения частнозначимых текстов, для верующего это будут непостижимые действия спасительного Промысла. Но мы всегда можем сказать одно — независимо от того, менялись ли тут законы природы, фантазировали мы, фантазировала сама природа, или происходило какое-то еще незаметное для нас текстопорождение в объективном мире, важно то, что получившаяся интерпретация непротиворечива для духовного возрождения человека. Не метафора или какой-то еще частный прием производит действие смысла, но сама текстовость, и позволяющая поддержать новый смысл как действенный.
Ваттимо говорит, что модернистское искусство на самом деле основано не на поиске новых форм, а на отказе от скомпрометировавших себя языков, скомпрометировавших себя педантизмом и связанными с ним моральными подлогами. Как раз поэтому африканская маска, древ нерусские иконы или резкие мазки по холсту и были для модернистов не скомпрометированным, не замаравшим себя бюрократическим грамматизмом языком. Впрочем, как показали формалисты, сам по себе авангард противоречив и не лишен некоторой педантичности. Современное искусство, которое отказывается от этой прагматичности авангарда, от его стремления к «подлинности» (как критиковала его Розалинда Краусс), видит в самом искусстве способность бытия сбыться независимо от используемого языка. Здесь Ваттимо следует Хайдеггеру, у которого в поэзии сбывается истина бытия, только на место национальной поэзии он ставит как бы не привязанный ни к какой культуре минимализм.
Итальянской теории отчасти следует живущий в Венеции русский искусствовед Глеб Смирнов-Греч. В таких своих книгах, как «Распушение чувствилищ» (2013) и «Ар- тодоксия» (2018), он полушутя-полусерьезно доказывает, что в современном мире наступила новая эпоха, эпоха Духа, который дышит где хочет. Поэтому любое вдохновенное произведение искусства способно выразить существенное содержание. Смирнов, как и Ваттимо, пишет о кенозисе, умалении Бога до предельной бедности, что Бог уже позволяет Себе как бы не быть, а искусству — играть с Ним.
Любая полка с книгами по искусству тогда есть храм Божий, и эпоха Духа уже не требует ни громоздкого Ветхого Завета, ни даже изящного Нового Завета, но только поклонения Богу в Духе и истине. Поэтому священной книгой артодоксии может стать любая книга по искусству, но лучший образ кенозиса — пустой холст, любое минималистическое произведение, и минималистические произведения современного искусства, например, Дюшан или arte povera, наиболее религиозны. Смирнов сравнивает реди-мейд с пресуществлением Даров, музей — с местом паломничества. К сожалению, некоторые читатели прочли эти тексты «грамматически», а не «духовно», и обвинили автора в культуропоклонничестве, хотя автор добивается, наоборот, низвержения всяких идолов готового, не интерпретирующего понимания.
Читать дальше
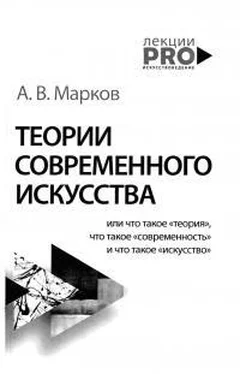

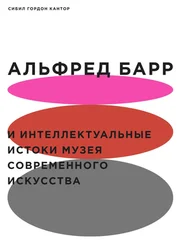
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)