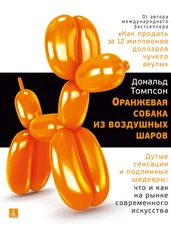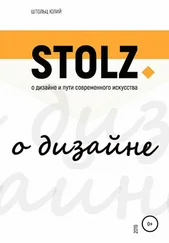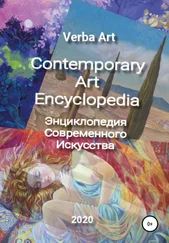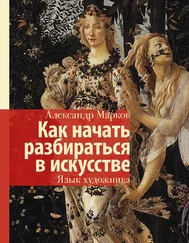Критика «большого стиля», возникшего как крайность модернизма, как модернизация модернизма, у Смирнова тоже есть в виде серии заметок о стилистике старых станций московского метрополитена. Смирнов предполагает, что станции метро строились как храмы, места собраний, не только из-за использования приемов храмовой архитектуры и декора, но и из-за функции — собрать народ и показать, что спасение будет осуществляться прямо здесь и сейчас, прямо во фресках и мозаиках метро оно будет показано. Например, всех москвичей впечатляла «Октябрьская-кольцевая», с ее алтарем неведомого бога, лазурным небом за садовой оградой, где на самом деле находится подсобка с пылесосами и тряпками. Смирнов в шутку пишет о станции «Электрозаводская», что она даже в названии заключает имя Бога «Эль», «Элохим», что электричество и есть свет Божий, просвещающий всех, и что Бог непостижим как электричество. Множество параллелей, например, между менорой, которую поддерживали несколько капель масла, и электрическим освещением метро, для которого даже масла не нужно, разрушают все большие рассказы и метафоры, коммунистические и обыденно-религиозные, тоже показывая, как надо понимать, а не следовать за готовым пониманием.
Что означают тезисы «всё есть текст» или «мир есть текст»? Это означает, что метанарративы, такие как «прогресс», «нация», «большая история» и другие не объясняют происходящего, а только идеологизируют его. Тогда как текст, поддающийся рациональному анализу, в котором можно вскрыть сами механизмы его устройства, сами принципы, по которым он собран, оказывается безопасным: мы уже знаем, как с ним обращаться, и поэтому об ходимся с культурой и ее текстами так же, как, по Барту, античные риторы обошлись с природой.
Как мы уже сказали, постструктурализм здесь вдохновляется опытом Мартина Хайдеггера и его критикой метафизики — немецкий философ считал, что «метафизика», иначе говоря, традиционная философия, сводя мир к каким-то готовым противостояниям, например, противопоставлению субъекта и объекта, или сопоставлению бытия и истины, уходит от настоящего бытия, заменяя его какими-то навязанными конструкциями, на самом деле утверждающими власть и привилегии субъекта. Поэтому необходимо провести настоящую критику метафизики, показывающую, как наша речь и готовые привычки искажают отношение к вещам, которое могло бы стать философским отношением.
Сам Хайдеггер, как и некоторые его французские последователи (например, Филипп Лаку-Лабарт, отчасти Жак Деррида), обращается к поэзии как к способу произвести такую ситуацию, при которой человек не оперирует вещами и понятиями, но слышит, как именно к нему обращается бытие. Это вдохновение от бытия, основанное не на отождествлении мысли с ним, не на присвоении, а напротив, на различении, разрыве, зиянии (иногда французские теоретики, особенно Деррида, используют аппарат психоанализа, говоря об оговорках и странностях выражения, абсурде как о таких зияниях). В таком случае поэзия выступает предварительной моделью философского мышления, основанного не на тождестве, не на самоутверждении, но на чувстве дистанции, на непривычном, на различениях и «складках», репликах, а не на отстаивающей свой авторитет монологичной речи.
Хайдеггер назвал такое состояние экстатического постижения истины «просветом» (Lichtung), что можно перевести как «просека», «подъем к свету», «облегчение», «зазор». Надо заметить, что можно быть хайдеггериан-цем, не будучи постструктуралистом. Например, усерднейший французский переводчик Хайдеггера, Франсуа Федье, не относит себя к постструктурализму, он всегда с осторожностью воспринимал яркие философские шоу Дерриды. Сейчас на русском языке вышла книга Федье «Мир спасет красота» (2020), и можно убедиться, что его опыты напоминают скорее духовные упражнения, как правильно понять текст Хайдеггера, не присвоив его, как осторожно подходить к понятиям, которые как будто слишком хрупки для поспешного употребления.
Так, Федье разбирает тезис Канта о том, что прекрасно то, что нравится помимо понятий. Он сразу оговаривает, что речь идет не о потреблении наслаждения, опережающем нашу способность мыслить, а о том, что понятия нас разделяют: кто-то понял, а кто-то — еще нет. Поэтому фраза Канта значит просто, что прекрасно то, что нравится всем. Но это не «все» в смысле суетливой толпы или усредненного человека, которым может нравиться нечто недоброкачественное, а «все» как люди, сумевшие жить в мире с собой и с другими и освободившиеся от тирании готовых понятий.
Читать дальше
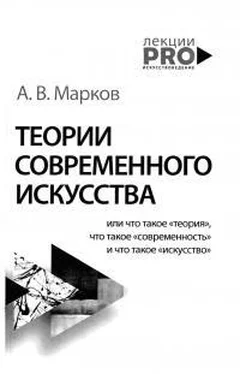

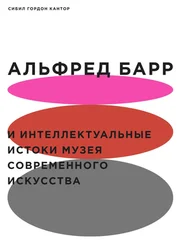
![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)